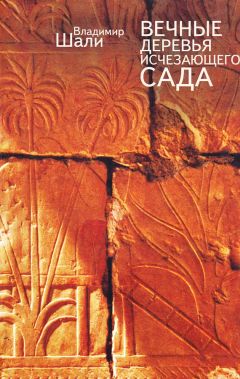Александр Секацкий - Размышления
Перекрыв риск-излучение, авантюрное измерение денег, экспроприировав тех, кто все же подбрасывает монету (причем инвестиции оказываются частным случаем), социализм лишил круговорот вещей важнейшей движущей силы, из экономики была удалена ее анима-душа – и экономика зачахла, задохнулась… Выходит, что между подбрасыванием монетки для определения судьбы (жребия) и вбрасыванием монеты в виде инвестиций существует безусловная преемственность, заставляющая вспомнить уже не раз озвученное утверждение: материя свободы везде одна и та же. А производные зависят от условной локализации событий, от конкретной сферы munda humana (человеческого мира), в которую проникают лучи. Тут тезис Монтескье о том, что у англичан его больше всего впечатляют две вещи – свобода и торговля, получает свое объяснение: ведь и то и другое связано с высокой квотой допуска риск-излучения. Если усовершенствовать политическую систему, аннулировав случайные флуктуации бросаний (ну или опусканий бюллетеней в урну), мы получим авторитаризм. Если усовершенствовать экономику, избавившись от азартных биржевых и околобиржевых игр, получим неодушевленное производство – в сущности, вполне терпимое, но обреченное вечно проигрывать состязание свободному рынку.
Предварительные контуры облученной вселенной начинают вырисовываться – можно набросать контурную карту облученных зон (см. рис. 2).
Из точки О, создающей вокруг себя поле азарта, исходит реликтовое излучение, причем сама точка находится где-то в глубине колодца, в окресностях Большого взрыва. Условно в этой точке расположен генератор случайных исходов (в частном случае – датчик случайных чисел), продукция которого пригодна для жребия, судьбы, свободы и других великих и опасных вещей. Генерируемое поле азарта проникает во все важнейшие человеческие феномены: такое проникновение со стороны самих феноменов может быть описано как воздействие реликтового риск-излучения. Выделим более или менее навскидку четыре сферы, внутри которых проникающее излучение создает особые анклавы (на схеме заштрихованы) – познание, личность, экономика, политика (власть). Что происходит в этих зонах соприкосновения?
Рис. 2
Первая (допустим) расположена в сфере познания, она являет собой вечный двигатель языковых игр, двигатель, способный работать и на холостом ходу, и с полезной нагрузкой, – это исходная преднаходимость языка, о которой говорил Витгенштейн. Анклав, образующийся внутри «личностного континуума», называется свободной волей, хотя можно называть его просто волей, поскольку другой не бывает. Третий анклав проникновения – внутри экономики, он имеет много разных псевдонимов – спекуляция, свободный рынок, предприимчивость как исходный драйв. Но чаще эту зону обозначают как «риски» – во множественном числе. Ну а четвертая зона, анклав, расположенный внутри политической власти, в самом общем виде может быть названа жеребьевкой, и ясно, что современные электоральные игры являются лишь ее исторической модификацией.
* * *Если риск-излучение совсем прекратится и расширения поля азарта (образованные анклавы) исчезнут, все сферы munda humana обрушатся, хотя и с разной скоростью. В последнюю очередь исчезнет познание[46], поскольку оно снабжено независимым генератором альтернативных исходов, способным некоторое время работать и без риск-излучения. Это базисный процесс спонтанного производства аргументов (возражений), так сказать, встроенный Полемос, хорошо отслеженный Гройсом. Что такое «мнение» или «точка зрения»? В общем виде вовсе не то, что сформировалось в сознании в результате длительного обдумывания, ведь тогда точек зрения было бы всего несколько, и их скрещивание не могло бы высекать искру спора при каждом удобном случае. Дело в том, что возражение просто провоцируется утверждением, да и само утверждение формируется в том числе под воздействием будущего возражения[47]. Вечный двигатель мысли, вернее, ее разгонный блок оказывается запущенным тогда, когда на каждое озвученное «я думаю» следует ответ «а я думаю…».
Да, материя свободы везде одна и та же, и она есть облученность реликтовым излучением, исходящим из ничто. Из безысходности, еще не связанной посредством временения в Универсум, в природу. Но мышление, расфасованное во множественность сознаний, мышление как дело мыслящего выработало как бы собственный источник аутопоэзиса, альтернативную дискретность исходов. Уже по способу рецепции и обработки длящихся серий бросаний поэзис мышления предстает как нечто особенное: уже отмечалось, что этот процесс лучше всего определить как «прихлопывание» и выхватывание, и даже выхватывание без прихлопывания, пресловутая «выдирка»[48], родственная по логике словообразования слову «понятие». Членораздельность мыслимого не полагается на миметическое воспроизводство эйдосов, оно опирается на предзаданность, встроенную реакцию выхватывания и извлечения производных любого порядка.
Поэтому мудрое и лаконичное изречение Аристотеля «Самое главное для философии – понять, что связывает вещи, по природе своей не связанные» следует продолжить: но не менее важно понять, что разделяет вещи, по природе своей нераздельные.
II. Антропология и история
Покойник как элемент производительных сил
Среди основных групп табу, то есть универсальных амбивалентных запретов, лежащих в основании культуры, табу мертвецов явно стоит особняком. Оно поражает прежде всего удивительным сочетанием силы и немотивированности, то есть, с одной стороны, в психических напластованиях современного человека мы без труда находим резонатор, где страх перед мертвецами обретает высочайшую достоверность, с другой стороны, попытки объяснить происхождение этого табу выглядят не всегда убедительными. Фрейд, усматривающий неодолимую силу табу в скрытом запретном желании (в самом деле, какой смысл запрещать нежеланное, да еще и мобилизуя для этого все ресурсы социума), вполне справляется с объяснением инцеста и табу властителей, но широчайший эмоционально-прагматический спектр отношения к умершему, покойнику ускользает от объяснения: «Дело не в том, что оплакивающие покойника действительно, как это утверждает навязчивый упрек, виновны в смерти или проявили небрежность; но где-то у них шевелилось такое им самим неизвестное желание, удовлетворенное смертью, – они и причинили бы эту смерть, если бы обладали для этого достаточной силой. Как реакция на это бессознательное желание и возникает самоупрек в смерти любимого существа»[49]. Затем соответственно боязнь мести со стороны умершего и так далее. Здесь для объяснения одного из самых глубинных и психологически насыщенных запретов привлекается частная причина, предполагающая уже сложную психическую архитектонику. Не исключено, что страх перед покойниками образует первую собственно человеческую эмоциональную ауру, из которой берет свое начало более поздняя и сложная эмоциональная дифференциация. Мы говорим, что мысль о смерти вызывает страх, но стоит задуматься, откуда она его вызывает, из каких резервов и коллекторов – при том что страх является немедленно, «по первому вызову» он тут как тут. Мысль о смерти, имеющая форму логического конструкта, обслуживается эмоциональной валютой, отчеканенной из субстанции страха перед покойниками[50].
Всмотримся в дошедшие до нас свидетельства о характере действия одного из самых могучих запретов. Подобно прочим, табу мертвых исключало или резко ограничивало возможность прикосновения. Всякий, прикасавшийся к покойнику, должен был пройти длительный очистительный обряд. У некоторых племен, как в тропической Африке, так и в Амазонии, обряд захоронения выполнялся париями, изгоями, и их общение с остальными членами племени было резко ограничено. По свидетельству Дандеса[51], люди джагга не знали, как хоронят мертвецов, ибо обязанность по их удалению была возложена на специальных «могильщиков», которые не имели права говорить в присутствии других, вообще не имели права выказывать признаков владения членораздельной речью. Разбивалась посуда, принадлежавшая умершим, уничтожались их вещи, порою сжигалось и жилище покойного. Невозможно перечислить все предосторожности, применявшиеся, для того чтобы умалить вред, который способен нанести мертвец. Что касается страха прикосновения, то он легко актуализуется в индивидуальной психике современного человека – этот страх составляет основное содержание детских страшилок и является одним из самых шаблонных приемов в фильмах ужасов (хватающий покойник).
Но в ряде случаев табу мертвецов простиралось еще дальше, причем есть основания считать подобный тип отношений наиболее архаичным. В работе «Тотем и табу» Фрейд отмечает: «Если покойник носит имя, похожее на название животного и т. д., то упомянутым народам кажется необходимым дать новое название этим животным или предметам, чтобы при употреблении данного слова не возникло воспоминание о покойнике, благодаря этому получилось беспрестанное изменение сокровищницы языка, доставлявшее много затруднений миссионерам. За семь лет, проведенных миссионером Добрицхоффером в Парагвае, название ягуара менялось три раза; такая же участь постигла крокодила, терновник и звериную охоту. Боязнь произнести имя, принадлежавшее покойнику, переходит в стремление избегать упоминания всего, в чем этот покойник играл роль, и важным следствием этого процесса подавления является то, что у этих народов нет традиций, нет исторических воспоминаний и исследование их прошлой истории встречает величайшие трудности»[52].