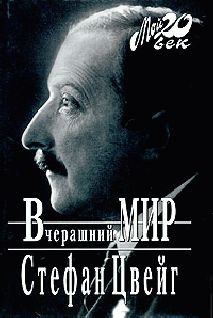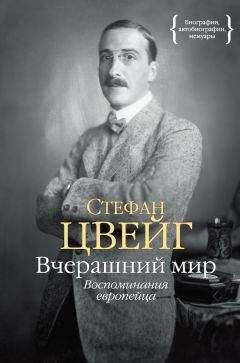Стефан Цвейг - Взгляд в зеркало моей жизни
Да, путешествовал я иначе; я запросто общался с лучшими людьми страны, а не искал доступа к ним; те, на кого я в молодости взирал с благоговением и которым никогда не осмелился бы написать, стали моими друзьями. Я стал вхож в круги, как правило, наглухо закрытые для непосвященных; я любовался частными Коллекциями во дворцах Сен-Жерменского предместья, и Итальянских палаццо; в государственных библиотеках и теперь уже не стоял с просительным видом у барьера, где выдают книги, — директора лично показывали мне самые редкостные и ценные издания; я бывал в гостях у антикваров, ворочающих миллионами долларов, например у доктора Розенбаха в Филадельфии, — рядовой коллекционер робко обходит стороной такие магазины.
Я впервые вступил в так называемый «высший» свет, да еще с тем преимуществом, что не нуждался в рекомендациях и все шли мне навстречу сами.
Но лучше ли я видел благодаря этому мир? Снова и снова томила тоска по путешествиям, какие я совершал в молодости, когда никто меня не ждал и все поэтому представлялось таинственнее, — мне хотелось вернуться к прежнему способу путешествовать.
Прибывая в Париж, я не спешил в тот же день оповещать о своем приезде даже ближайших друзей, таких, как Роже Мартен дю Гар, Жюль Ромен[7], Дюамель[8], Мазерель[9]. Мне хотелось прежде всего побродить по улицам — бесцельно, как некогда в студенческие годы. Я заходил в старые кафе и гостиницы, словно возвращался в свою молодость; как и прежде, если я хотел поработать, то выбирал самую неподходящую местность — Булонь, или Тирано, или Дижон; было так хорошо жить в безвестности, в маленьких гостиницах (особенно после мерзости роскошных), то появляясь на поверхности, то уходя на глубину, распределяя свет и тень по собственной воле.
И что бы впоследствии ни отнял у меня Гитлер, светлого чувства, что все-таки еще одно десятилетие было прожито так, как мне хотелось, с ощущением душевной свободы европейца, — этого даже он не в силах ни конфисковать, ни разрушить.
* * *Одно из путешествий того времени было для меня особенно волнующим и поучительным — путешествие в новую Россию. Я собирался поехать туда еще в 1914 году, когда работал над книгой о Достоевском, но кровавая коса войны преградила мне путь, и с тех пор меня удерживали сомнения.
Благодаря небывалой доселе деятельности большевиков Россия стала после войны самой притягательной страной; не имея точных сведений, одни безудержно восхищались ею, другие питали к ней столь же фанатичную вражду.
Никто достоверно не знал — из-за пропаганды и бешеной контрпропаганды, — что там происходило. Однако было ясно, что там затеяли нечто совершенно новое, нечто такое, что может повлиять на судьбы всего будущего мира.
Шоу, Уэллс, Барбюс, Истрати[10], Жид[11] и многие другие ездили туда; одни вернулись энтузиастами, иные — скептиками, и чего бы стоила моя сопричастность миру духа, моя устремленность к новизне, если бы я тотчас не загорелся возможностью, сопоставить свои представления с увиденным собственными глазами.
Там были очень популярны мои книги — не только собрание сочинений с предисловием Максима Горького, но и маленькие грошовые издания, имевшие хождение и самых широких слоях народа; я мог не сомневаться в хорошем приеме. Но меня удерживало то, что любая поездка в Россию в те годы немедленно обретала характер некоей политической акции; требовался, публичный отчет — признаешь или отрицаешь, — а я, испытывая глубочайшее отвращение и к политике, я к догматизму, не мог допустить, чтобы меня заставили после нескольких недель пребывания в этой необъятной стране выносить суждения о ней и о ее еще не решенных проблемах.
Поэтому, несмотря на жгучее любопытство, я не решался отправиться в Советскую Россию. И вот весной 1928 года я получил приглашение — в качестве представителя от австрийских писателей принять участие в праздновании столетнего юбилея Льва Толстого и выступить с речью о нём на торжественном вечере. У меня ни было причин для отказа, поскольку поездка, в связи с общечеловеческой значимостью повода ее, не имела политического характера. Толстого — апостола непротивления — нельзя было представить большевиком, а говорить о нем как о писателе я имел полное право, так как моя книга о нем разошлась во многих тысячах экземпляров; к тому же мне представлялось, что для сплочения Европы это станет важным событием, если писатели всех стран объединятся, чтобы отдать дань восхищения величайшему среди них.
Я согласился, и мне не пришлось пожалеть о своем быстром решении. Поездка через Польшу уже была событием. Я увидел, насколько быстро умеет наше время залечивать раны, которые оно само себе наносит. Те самые галицийские города, развалины которых я видел в 1915-м, выглядели обновленными; я опять убедился, что десять лет, такой огромный для каждого человека период, — это всего лишь миг жизни народа. В Варшаве ничто не напоминало о том, что по ней дважды, трижды, четырежды прокатились победоносные и разбитые армии. В кафе блистали элегантные женщины. Стройные офицеры в приталенных мундирах прогуливались по улицам, похожие, скорее, на ловких придворных актеров, наряженных военными. Повсюду ощущалось оживление, доверие и оправданная гордость за то, что новая, республиканская Польша так быстро поднялась из руин.
От Варшавы было уже недалеко до русской границы. Местность становилась все более плоской, почва более песчаной; на каждой станции выстраивалось все население деревни в пестрых сельских нарядах: в запретную и закрытую страну проходил в те времена один поезд в день, и прохождение ослепительного вагона экспресса, соединяющего миры: Восток и Запад, — это было целым событием. Наконец добрались до пограничной станции Негорелое!
Над железнодорожным полотном был натянут кумачовый транспарант с надписью, которую я не разобрал, так как это была кириллица. Мне перевели: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пройдя под этим пламенеющим стягом, мы вступали в империю, где правил пролетариат, в Советскую республику, в новый мир. Правда, поезд, который нам подали, был отнюдь не пролетарский. Он оказался старорежимным спальным поездом и был роскошнее, чем европейские люкс-поезда, и удобнее — вагоны шире, а скорость меньше.
Впервые ехал я по русской земле, и — странное дело — она не казалась мне чужой. Все было удивительно знакомо — тихая грусть широкой пустынной степи, избушки, городки, высокие колокольни с луковичными завершениями, бородатые мужики — каждый не то крестьянин, не то пророк, — улыбавшиеся нам открыто и добродушно, женщины в пестрых платках и белых фартуках, торговавшие квасом, яйцами и огурцами. Откуда я знал все это? Исключительно благодаря замечательной русской литературе — по произведениям Толстого, Достоевского, Аксакова, Горького, которые столь правдиво изобразили «жизнь народа». Мне казалось, хотя я и не знал языка, что понимаю то, что говорят эти люди — трогательно-простые мужики, спокойно стоявшие вокруг в своих просторных рубахах, и молодые рабочие в поезде, игравшие в шахматы, или читавшие вслух, или спорившие, — понимаю эту беспокойную, неукротимую энергию молодости, неимоверно возросшую в ответ на обращение отдать все свои силы. Сказывались ли в этом отношении любовь Толстого и Достоевского к «народу», которая жила во мне как воспоминание — во всяком случае, уже в поезде меня охватило чувство симпатии к детскому и трогательному, умному и естественному в этих людях. Две недели, которые я провел в Советской России, потребовали непрестанного огромного напряжения. Смотрел, слушал, восхищался, разочаровывался, воодушевлялся, сердился — меня без конца бросало то в жар, то в холод. Уже сама Москва двоилась: вот великолепная Красная площадь: стены и башни с луковицами — нечто поразительно татарское, восточное, византийское (а стало быть, исконно русское), — а рядом, словно выходцы из другого мира, современные, сверхсовременные дома, подобные американским…
Одни-два сверкающих автомобиля — и тут же бородатые, грязные извозчики, погоняющие кнутом, причмокиванием и ласковыми словами своих тощих лошаденок; Большой театр, в котором мы выступали перед пролетарской публикой, сиял царским великолепием и торжественным блеском, а на окраинах стояли ветхие дома-инвалиды, прислонясь друг к другу, чтобы не упасть. Слишком много накопилось старого, инертного, проржавленного, и теперь все стремилось без промедления стать современным, ультрасовременным, супертехническим. Из-за этой спешки Москва казалась переполненной, перенаселенной, сумбурной и хаотичной… Повсюду толкались люди: в магазинах, перед театрами, и повсюду им приходилось ждать, излишняя заорганизованность приводила к сбоям. Молодые руководители, призванные навести «порядок», еще вкушали радость от сочинительства записок и разрешений, что тормозило дело.