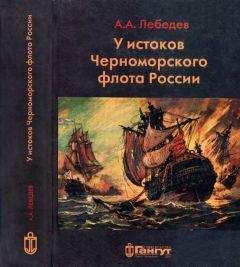Дэвид Уоллес - Старый добрый неон
Существует простой логический парадокс, я называю его «парадокс фальшивости», который я более-менее самостоятельно открыл на курсе математической логики в школе. Помню, то был большой курс для студентов, проходивший дважды в неделю в аудитории с профессором за кафедрой, а по пятницам в небольших дискуссионных группах, которые вел лаборант, чья жизнь, казалось, целиком и полностью была посвящена математической логике. (Плюс все, что надо было для пятерки — сидеть с методичкой, редактором которой был наш препод, и запоминать всякие типологии аргументов, нормальные формы и аксиомы первого порядка, то есть курс был таким же чистым и механическим, как сама логика, в смысле, если вложишь время и усилия — получишь в итоге хорошую оценку. До парадоксов вроде Парадоксов Рассела и Берри и теоремы о неполноте мы дошли только в самом конце семестра и их не было на экзаменах). Парадокс фальшивости заключается в том, что чем больше времени и усилий вкладываешь, чтобы казаться впечатляющим и привлекательным для других, тем менее впечатляющим и привлекательным ты себя чувствуешь — то есть ты фальшивка. И чем больше чувствуешь себя фальшивкой, тем сильнее пытаешься передать впечатляющий или приятный образ себя, чтобы другие не догадались, насколько ты на самом деле неглубок и фальшив. Логически можно представить, что как только предположительно умный девятнадцатилетний узнает об этом парадоксе, он перестанет быть фальшивкой и просто будет собой (что бы это ни значило), так как он выяснил, что быть фальшивкой означает жестокий бесконечный регресс, неизбежно ведущий к страху, одиночеству, отчуждению и т. д. Но тут есть другой парадокс, более высокого порядка, у него нет даже формы или названия — я не остановился, не смог. Открытие первого парадокса в возрасте девятнадцати лет лишь проиллюстрировало мне в красках, каким я был пустым, фальшивым человеком еще с как минимум того случая в четыре года, когда я солгал отчиму, потому что как-то осознал во время его вопроса, не я ли разбил вазу, что если я скажу, что да, но «сознаюсь» несколько неуклюже, неубедительно, то он мне не поверит и решит, что на самом деле это моя сестра Ферн, биологическая дочь моих приемных родителей, разбила старинную вазу мозеровского стекла, которую мачеха получила по наследству от биологической бабушки и от которой была без ума, плюс это приведет его к тому или убедит в том, что я добрый, любящий сводный брат, который настолько боялся, что Ферн (которая мне действительно нравилась) попадет в неприятности, что был готов солгать и принять наказание за нее. Я непонятно объясняю. В конце концов, мне было всего четыре, и это осознание пришло ко мне не так, как я только что описал, но скорее в плане чувств и ассоциаций и определенных мысленных вспышек лиц приемных родителей с различным выражениями. Но это случилось так рано, всего лишь в четыре — то, что я выяснил, как создать определенное впечатление, зная, какой эффект произведу на отчима, неубедительно «сознавшись», будто это я ударил Ферн по руке и отнял ее хула-хуп и сбежал вниз по лестнице и начал крутить хула-хуп в столовой прямо рядом с сервантом, в котором были все мачехины старинные стеклянные сервизы и статуэтки, а Ферн, тем временем, позабыв о руке и хула-хупе, испугавшись за вазу и остальную посуду, сбежала по лестнице с криками, напоминая мне о важности правила никогда не играть в столовой… То есть намеренно солгав неубедительно, я могу получить все то же, что дала бы прямая ложь, плюс образ благородного и готового на самопожертвование сына, плюс порадую приемных родителей, потому что они всегда, как правило, радовались, если кто-то из их детей как-нибудь проявлял характер, потому что не могли не видеть, что это благоприятно отражается на их образе воспитателей характеров детей. Я потому описываю это все так долго, торопливо и неуклюже, чтобы передать, как я помню, как меня внезапно озарило, пока я смотрел на большое доброе лицо отца, державшего два самых крупных осколка мозеровской вазы, стараясь выглядеть сердитей, чем был на самом деле. (Он всегда думал, что самые ценные вещи следует хранить где-нибудь подальше в безопасном месте, тогда как мачеха скорее стояла на той точке зрения, что какой смысл иметь что-то дорогое, если не можешь поставить это там, где оно будет приносить людям удовольствие). В голове тут же вспыхнуло, как выставить себя в определенном свете и заставить его прийти к определенному заключению. Помни, что мне было всего около четырех. И не буду врать, что чувствовал себя плохо — по правде сказать, чувствовал я себя отлично. Я чувствовал себя могучим и умным. Это примерно как смотреть на пазл, держа в руках детальку, и не видеть, куда в общей картине она должна подходить или куда ее вставить, осматривать все дырки, и внезапно вмиг увидеть, без всякой причины, которую можно было бы объяснить словами, что если определенным образом повернуть детальку, то она подойдет, и она подходит, и может, лучший способ объяснить мое прозрение — сравнить с этим крошечным мигом, когда вдруг чувствуешь, что ты связан с чем-то большим и куда более цельным, как деталька в пазле. Единственное, что я пренебрег предвидеть — реакция Ферн на обвинения за вазу, и наказание, и потом еще большее наказание, когда она продолжит отрицать, что играла в столовой, а приемные родители будут стоять на том, что их куда больше расстраивает и разочаровывает ложь, нежели ваза, которая, по их словам, лишь материальный объект и не так важна в общей картине мира (приемные родители так и говорили, они были приверженцами высоких идеалов и ценностей, гуманистами. Их главным идеалом была абсолютная честность в семейных отношениях, а ложь в их представлении как родителей была худшим, самым разочаровывающим нарушением, что можно совершить. Между прочим, как правило, они воспитывали Ферн чуть тверже, чем меня, но и это исходило из их ценностей. Для них была важна справедливость и мое ощущение, что я настолько же их родной ребенок, как и Ферн, так что я чувствовал максимальную опеку и любовь, но иногда чувство справедливости заставляло их немного перегибать, если дело доходило до дисциплины). Итак, Ферн теперь считали вруньей, хотя это было не так, и наверняка это обидело ее больше, чем само наказание. Ей тогда было всего пять. Ужасно, когда тебя считают фальшивкой, или когда ты уверен, что тебя считают фальшивкой или лжецом. Может, одно из самых худших ощущений в мире. И хотя я никогда не испытывал ничего такого прямо, уверен, что вдвойне ужасней, когда говоришь правду, а тебе не верят. Не думаю, что Ферн забыла этот случай, хоть потом мы никогда его не вспоминали, не считая одной скрытой ремарки, которую она однажды бросила через плечо, когда мы оба учились в средней школе и поспорили о чем-то и Ферн вылетела из дома, хлопнув дверью. Она была классическим проблемным подростком — курение, макияж, посредственные оценки, свидания с парнями постарше и т. д. — тогда как я был гордостью семьи и имел убийственный средний балл и играл за университетскую команду и т. д. Другими словами, на поверхности я выглядел и вел себя намного лучше, чем Ферн, хотя, в конце концов, она угомонилась и поступила в колледж и теперь живет ОК. А еще она одна из самых веселых людей в мире, у нее очень сухое, тонкое чувство юмора — она мне очень нравится. Суть в том, что так я стал фальшивкой, хотя нельзя сказать, что случай с разбитой вазой послужил истоком моей фальши или стал какой-то детской травмой, которую я не смог пережить и которую надо излечить во время психоанализа. Фальшь всегда была во мне, так же, как детальку пазла, объективно говоря, можно считать истинной деталькой пазла даже до того, как найдешь, куда ее вставить. Какое-то время я думал, что, может, один из моих биологических родителей был фальшивкой, или оба несли какой-то ген фальши или что-то такое, и я все унаследовал — но ведь это тупик, наверняка никогда не узнать. А если бы и узнал, какая разница? Я все равно фальшивка, все равно я один на один с этим несчастьем.
Еще раз — я понимаю, что излагаю неуклюже, но суть в том, что все это и даже больше промелькнуло у меня в голове именно в момент маленькой, драматической паузы, которую позволил себе доктор Густафсон прежде, чем заявил свой апагогический аргумент[8], что я не могу быть полной фальшивкой, если только что сделал шаг и только что признал свою фальшивость. Я знаю, что ты знаешь не хуже меня, как быстро в голове проносятся мысли и ассоциации. Можно быть посреди творческой встречи на работе или еще где, и всего лишь в короткие паузы, пока все просматривают свои записи и ждут следующую презентацию, в голове пролетит столько материала, что всей этой встречи не хватит, чтобы переложить в слова секундные наводнения мыслей. Это еще один парадокс: большинство из множества важных впечатлений и мыслей в жизни человека — те, что мелькают в голове так быстро, что «быстро» даже не то слово, они так отличаются от последовательного времени, по которому мы живем, и имеют так мало отношения к линейному, слово-за-словом английскому, на котором мы друг с другом общаемся, что лишь сказать вслух содержание вспышки мыслей и ассоциаций и т. д. одной доли секунды легко займет целую жизнь — и все же мы по-прежнему пытаемся применять английский (или какой язык для нас родной, само собой разумеется), чтобы пытаться передать другим, что мы думаем, и узнать, что думают они, тогда как в глубине каждый знает, что это спектакль и они попросту тратят время. То, что происходит внутри, слишком быстро и огромно и запутанно, чтобы слова могли хотя бы едва обрисовать очертания самой наименьшей частички любого данного мгновения. Кстати говоря, внутренняя головная скорость — или как это назвать — идей, воспоминаний, осознаний, эмоций и т. п. еще быстрей — экспоненциально быстрей, невообразимо быстрей — когда умираешь, то есть в эту исчезающее крошечную наносекунду между технической смертью и чем-то следующим за ней, так что на самом деле клише о том, будто у людей, когда они умирают, вся жизнь пролетает перед глазами, не так уж далеко от истины — хотя вся жизнь здесь не значит нечто последовательное, когда сперва родился, потом в колыбели, потом на базе в Легионской лиге и т. д., потому что, оказывается, когда люди говорят «вся моя жизнь», они имеют в виду дискретную, хронологическую последовательность моментов, которые они складывают и зовут продолжительностью жизни. На самом деле все не так. Лучшее, что мне приходит в голову для описания — все происходит сразу, но при этом «сразу» не означает некий конечный момент последовательного времени, как мы представляем время при жизни, плюс то, что на деле оказывается значением словосочетания «моя жизнь», даже не близко к тому, что мы имеем в виду, когда говорим «моя жизнь». Слова и хронологическое время уже на самом элементарном уровне создают путаницу в понимании того, что происходит в реальности. И все же при этом английский — все, что у нас есть для понимания и попыток формирования с кем-то другим чего-то большего и значительного и истинного, что является очередным парадоксом. Доктор Густафсон — которого я снова повстречал много позже и с удивлением обнаружил, что он больше не имеет ничего общего с большим рыхлым подавленным мужиком, откинувшимся на шарики спинки кресла в кабинете в Ривер Форест с уже таящимся в нем тогда раком толстой кишки, о котором он еще ничего не знает, не считая, что в последнее время, когда он в ванной комнате, там внизу ему нехорошо, и если все будет продолжаться такими темпами, то придется записаться на прием и спросить терапевта — доктор Джи позже скажет, что феномен промелькания всей жизни перед глазами перед смертью скорее как верхушка айсберга на поверхности океана — то есть только в тот момент, когда начинаешь оседать и сползать, осознаешь, что вокруг вообще есть океан. Когда ты снаружи в виде верхушки, можешь говорить и действовать так, будто понимаешь, что ты всего лишь верхушка айсберга, но глубоко внутри ты не веришь, что океан вообще есть. Почти невозможно поверить. Или как листок, который не верит в дерево, часть которого он, и т. д. Сравнить можно с чем угодно.