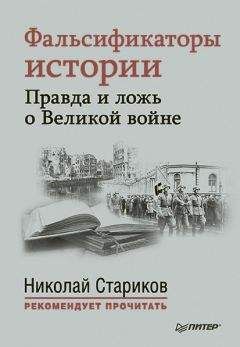Дэвид Уоллес - Интервью Ларри Макэффри с Дэвидом Фостер Уоллесом
Конечно, в каком-то смысле этого нельзя избежать, потому что автор должен показывать какое-то мастерство или умение, чтобы читателю ему доверял. Есть такие странные, деликатные, я-верю-что-ты-меня-не-подставишь отношения между читателем и писателем, и оба должны их поддерживать. Но есть неигнорируемая черта между демонстрацией навыков и очарования, чтобы заслужить доверие к истории, vs простая показуха. И в итоге упражняешься в том, чтобы нравиться читателю, чтобы он тобой восхищался, вместо того, чтобы упражняться в творчестве. По-моему, ТВ пропагандирует идею, что хорошее искусство — просто то искусство, благодаря которому люди любят средство, которое им это искусство доносит, становятся зависимыми от него. Ядовитый урок для будущего творца. И одно из последствий — если артист чрезмерно зависит от того, чтобы просто «нравиться», то его истинная цель — не в творчестве, а в хорошем мнении аудитории, и у него разовьется ужасная враждебность к этой аудитории, просто потому, что всю свою силу он отдаст ей. Это знакомый синдром любви-ненависти в соблазнении: «Мне на самом деле все равно, что я говорю, главное — чтобы вам это понравилось. Но раз ваше мнение — единственный арбитр моего успеха и достоинств, вы имеете надо мной поразительную власть, и я вас из-за этого боюсь и ненавижу». Эта динамика не эксклюзивна для искусства. Но я часто, кажется, вижу ее в себе и в других молодых писателях, это отчаянное желание радовать в сочетании с враждебностью к читателю.
ЛМ: И как проявляется эта враждебность в твоем случае?
ДФВ: О, не всегда, но иногда в форме предложений, которые не неправильны синтаксически, но все равно глаза сломаешь, пока прочтешь. Или дубасить читателя информацией. Или посвятить много энергии на создание ожиданий, а потом с удовольствием разочаровать. Это ясно видно в чем-нибудь типа «Американского психопата» Эллиса: сперва он потворствует читательскому садизму, но в конце становится ясно, что истинный объект садизма — сам читатель.
ЛМ: Но хотя бы в случае «Американского психопата» я чувствовал, что в книге есть что-то большее, чем просто желание причинить боль — или чувствовал, что Эллис жестокий в том смысле, в каком, по твоим словам, и должен быть жестоким серьезный писатель.
ДФВ: Ты просто выражаешь тот цинизм, что позволяет плохой литературе манипулировать читателем. По-моему, это особый черный цинизм современного мира, от которого зависят Эллис и некоторые другие. Смотри, если современность — безнадежно дерьмовая, безвкусная, материалистическая, эмоционально отсталая, садомазохистская и тупая, тогда я (или любой другой писатель) могу безнаказанно лепить истории из персонажей, которые тупые, бессодержательные, эмоционально отсталые, а это легко, потому что такие персонажи не требуют развития. Состоят из описаний в виде списков брэндов потребительских продуктов. Где глупые люди говорят друг другу безвкусные вещи. Если то, что всегда отличало плохую литературу — то есть плоские персонажи, клише, неузнаваемый человеческий нарративный мир, и т. д. — и есть описание современного мира, тогда плохая литература становится гениальным мимесисом плохого мира. Если читатели верят, что мир дурацкий, плоский и злой, тогда Эллис может написать злой плоский дурацкий роман, который станет язвительным безэмоциональным комментарием к тому, как все плохо. Но слушай, черт, может, большинство из нас и согласится, что сейчас темные времена, и весьма дурацкие, но нужна ли нам литература, которая не делает ничего, а только драматизирует, какое все дурацкое и темное? В темные времена хорошим искусством, мне кажется, является искусство, которое находит и применяет СЛР к тем элементам человеческого и волшебного, что еще живы и сияют вопреки тьме времен. По-настоящему хорошая литература может изображать настолько мрачное мировоззрение, насколько хочется, но найдет и способ изобразить мир, и осветит возможности быть в нем живым и человеческим. Можно оправдать «Психопата» как некое перфомативное резюме социальных проблем конца восьмидесятых, но не более того.
ЛМ: Ты хочешь сказать, что писатели твоего поколения обязаны не только отображать наше состояние, но еще и представлять решения проблем?
ДФВ: Мне кажется, я имею в виду не только условные политические или социальные проблемы и решения, вроде подсказок к действиям. Суть литературы не в этом. Литература изучает, что значит быть гребаным человеком. Если отталкиваться, как большинство из нас, от посылки, что в современных США есть определенные вещи, которые делают характерно трудным быть настоящим человеком, тогда, может, половина дела литературы — драматизировать, из-за чего это так непросто. А другая половина — драматизировать факт, что мы — прямо сейчас — все еще люди. Или можем ими быть. Не то чтобы литература должна наставлять или поучать, или делать из нас славных маленьких христиан или республиканцев; я не хочу встать в ряд с Толстым и Гарднером. Я просто думаю, что литература, которая не исследует, что значит быть сейчас человеком — не искусство. У нас уже полно «литературы», которая просто монотонно рассказывает, что мы становимся все менее и менее людьми, которая представляет персонажей без души или любви, персонажей, которых можно действительно исчерпывающе описать брендами одежды, и мы все покупаем эти книжки и такие: «Боже мой, какой язвительный и эффективный комментарий на современный материализм!» Но мы уже «знаем», что американская культура материалистична. Такой диагноз ставится двумя строчками. Он никого не завлекает. А что действительно завлекает и творчески реально — взяв за аксиому, что настоящее до гротеска материалистично — узнать, как это у нас, у людей, еще осталась способность к радости, милосердию, искренним связям, к тому, что не имеет цены? И можно ли сделать так, чтобы эти способности процветали? И если да — то как, и если нет — почему?
ЛМ: Не все в твоем поколении выбирают маршрут Эллиса. Оба других писателя в этом номере «Обзора современной литературы» (The Review of Contemporary Fiction), кажется, делают как раз то, о чем ты говоришь. Например, хотя книга Воллмана «Радужные истории» («Rainbow Stories») прославилась примерно тем же, что и «Американский психопат», он все же старается изображать людей не плоскими, дегуманизированными стереотипами, но людьми. Хотя я соглашусь, что большинство современных писателей сегодня перенимают эту плоскую, нейтральную трансформацию людей и событий, даже не напрягаясь, чтобы перефокусировать свое воображение на тех людей, которые выжили, несмотря на все трансформации. Но Воллман, кажется, борется с этой тенденцией по-своему.
Это возвращает нас к вопросу о том, что серьезные писатели не всегда сталкивались с этой дилеммой. Кроме заниженных (или изменившихся) ожиданий читателя, что еще сделало задачу серьезного современного писателя сложнее, чем тридцать, или шестьдесят, или сто, или тысячу лет назад? Ты наверняка скажешь, что сейчас задача серьезных писателей проще, поскольку то, что произошло в шестидесятых, наконец разрушило всю власть, что накладывал мимесис. Раз вам больше не надо с ним бороться, вы вольны перейти на другие территории.
ДФВ: Это палка о двух концах — наследие ранних постмодернистов и критиков-постструктуралистов. С одной стороны, перед молодыми писателями сейчас слишком большой выбор. Большинство старых сдерживаний и ограничений — цензура как очевидный пример — давно уже ушли. Сегодня писатели могут более-менее делать все, что хотят. Но с другой стороны, так как все могут, по сути, делать все, что захотят, без определяющих их границ или рамок, с которыми надо бороться, в итоге получаешь авангардный поток, в котором никто не задается вопросом, куда он стремится, какая цель у потока. Модернисты и ранние постмодернисты — от Малларме до Кувера, пожалуй — уже нарушили для нас почти все правила, но мы забываем то, что они были вынуждены помнить: нарушение правил должно происходить «во имя» чего-то. Когда нарушение правил — то есть только «форма» ренегадного авангардизма — становится само по себе целью, остаешься с плохой поэзией, выкручиванием сосков «Американским психопатом» и Элисом Купером, который ест дерьмо на сцене. Шок перестает быть побочным продуктом прогресса и становится целью сам по себе. А это хрень. Вот аналогия. Изобретение высшей математики шокировало, потому что долгое время просто считалось, что нельзя делить на ноль. От этого предположения, казалось, зависела целостность математики. Потом пришли какие-то гениальные титаны и заявили: «Ну да, может, на ноль делить нельзя, а если было бы „можно“? Мы попробуем сделать это, как сможем, и посмотрим, что будет».
ЛМ: То есть мы получаем бесконечно малые числа — «философию „а если“.
ДФВ: И этот чисто теоретический конструкт лег в основу поразительных практических результатов. Внезапно теперь можно вычислить площадь под кривой и рассчитывать скорости изменения. Почти любое математическое удобство, которое нам сейчас так помогает — последствие таких „а если“. Но что если бы Лейбниц и Ньютон хотели бы поделить на ноль, только чтобы показать видавшей виды аудитории, какие они крутые бунтари? Ничего бы не вышло, потому что такая мотивация не приносит результатов. Она выхолощенная. А-если-поделить-на-ноль было титанически и гениально, потому что служило чему-то. Шокированный математический мир — это цена, которую они заплатили, а не сама цель.