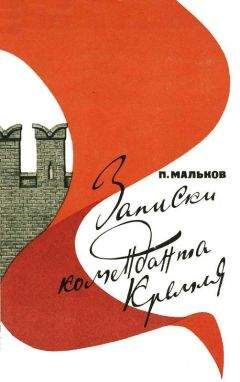Татьяна Тэсс - Поступи, как друг
Куда он пойдет теперь?
Снег
С утра пошел снег.
Это не был тот снегопад, знакомый и обычный, к которому мы привыкли в Москве, когда утром проснешься и видишь, что все вокруг белым-бело. И ты не удивляешься, а просто говоришь: «Ну, вот и зима!»
Снег выпал в южном городе, и это выглядело, как чудо. Огромные, тяжелые, медленные снежинки падали на землю. Облик города изменился до неузнаваемости, когда его окрасила непревзойденно чистая белизна.
Снег лежал на деревьях, с которых еще не опала осенняя листва, и старые узловатые акации принарядились и надменно охорашивались под ветром. На всех крышах белели пушистые башлыки; бронзовые памятники запахнулись в снежные плащи; водосточные трубы, словно модницы, нацепили на себя украшенья из сосулек, карнизы посмеивались в длинные снежные усы.
Но самым удивительным казался снег, лежащий в городском саду. Взбитый и мягкий, он с притворным послушанием повторял все отпечатки: от зернистого следа новеньких галош до изящного, как китайская графика, рисунка птичьих лапок. Но не успевали вы оглянуться, как снегопад уже стирал их начисто, и опять на дорожке была такая слепящая гладкая белизна, словно никогда не ступали здесь ни человек, ни птица.
Городской сад был в центре города, и отсюда я хорошо видела, как, зарываясь в снег, бегут по улицам троллейбусы, как, окутанные снежной пылью, пробиваются машины… Навстречу по дорожке шагала женщина, она катила по снегу детскую коляску с поднятым верхом. Рядом шел сердитый мальчик лет шести, закутанный так, будто его снарядили на Северный полюс.
— Андрюша, — сказала женщина мальчику. — Я забегу в молочную, а ты побудешь с Любочкой. Помни, ты сейчас старший, а она маленькая. Никуда не отходи и смотри за ней. Понятно?
— Понятно, — сказал мальчик хмуро.
Женщина пристроила коляску у скамьи, укрытой пуховым одеялом снега, и ушла. Мы остались втроем.
Я заглянула в коляску и увидела маленький, как кнопка, розовый нос и два изумленных, широко раскрытых глаза, похожих на светлые капли росы. Любочка не спала. Мальчик снял варежки, набрал пригоршни снега и стал катать снежок. В ее сторону он не смотрел.
— Хорошо, что идет снег, — сказала я. — Правда?
Мальчик кивнул головой.
— Наверное, его уже нельзя будет расчистить, — сказал он с надеждой. — Даже если тыщи дворников возьмут тыщи метелок. Как вы думаете?
— Видишь ли… Есть машины для уборки снега. Это у них получается довольно ловко. А кроме того, снег может растаять.
— А если он все равно растает, зачем он тогда идет? — спросил мальчик.
— Твердые атмосферные осадки, выпадающие из облаков, — начала я и остановилась, увидев, каким стало лицо мальчика. — Я думаю, снег идет потому, что это очень красиво, — сказала я. — Ведь цветы, ты знаешь, тоже осыпаются, а все-таки расцветают, что бы там ни было. И как бы мы стали жить без цветов?
— Это, пожалуй, верно, — согласился мальчик.
Он подошел ко мне и, поколебавшись, сказал доверительным шепотом:
— Я заметил, что у каждой снежинки другой рисунок. Это очень странно. Кто это увидит? Зачем так стараться?
— Но ведь ты же увидел, — сказала я. — Может быть, для этого и стоило постараться?
— Вы так думаете? — спросил мальчик.
С дерева сорвалась стая очень маленьких птиц и улетела, пересвистываясь, словно прозвенели и рассыпались кусочки льда. Девочка в коляске по-прежнему глядела в небо своими светлыми, как роса, глазами.
— У тебя хорошая сестричка, — сказала я.
— Ничего, — сказал мальчик уныло. — Только лучше бы она была сестрой Вовки. Это мальчик из нашего двора.
— Почему так?
— Э! — Мальчик махнул рукой. — Теперь уже папа с мамой думают только про нее. И все время говорят: «Она маленькая, а ты старший». Раньше я очень хотел стать взрослым, — сознался он. — А теперь вижу, что от этого одни только неприятности. И, знаете, они даже поиграть с ней не позволяют! Будто она из стекла и может разбиться. А ничего в ней особого нет: ведь я тоже был такой маленький… — Он осуждающе посмотрел на коляску, где посапывала Люба.
— По-моему, не так уж плохо быть взрослым, — примирительно сказала я. — Так мне кажется, во всяком случае.
— Когда человек давно взрослый — он, наверное, привыкает… — сказал мальчик и вздохнул.
Мы опять помолчали.
По дорожке, печатая в снегу елочки следов, заковылял толстый городской голубь. Он подбирался ближе, не обращая на нас никакого внимания; снег оседал на его широкой грифельной спине. Голубь заметил разноцветные шарики, болтающиеся над Любиной коляской. Нацелившись, как снайпер, он взлетел на край коляски и ударил клювом красный шарик.
Над самым личиком Любы оказалась огромная птица с разинутым клювом. Девочка, оцепенев от ужаса, смотрела на голубя; потом личико ее сморщилось, и она залилась пронзительным плачем.
— Пошел вон! — заорал Андрюша на голубя. — Я т-тебе покажу. Я т-тебе дам! — Он ринулся вперед.
Голубь, взмахивая крыльями, взлетел на плечо статуи.
— Уйди отсюда! — кричал мальчик. — Нахал какой! — Он потряс ветку, и снежное облако с шорохом осыпалось на статую. Голубь неторопливо полетел прочь.
Люба продолжала реветь в своей коляске. Мальчик подошел к ней.
— Перестань плакать! — сказал он снисходительно. — Ведь я его прогнал! Поняла? И я от тебя никуда не уйду. Вот глупая — плачет…
Мальчик наклонился над Любой, озабоченно глядя в ее румяное несчастное личико.
И, вероятно, так и не понял, что в эту минуту он впервые испытал одно из самых драгоценных чувств, какое знает взрослый сильный человек, когда он бесстрашно идет на помощь слабому, нуждающемуся в его защите.
Мадонна Литта
К дому подъехала машина, оттуда вышли девушка в длинном белом платье и пожилая женщина в теплом пальто.
Было холодно, с Невы дул ленинградский ветер, пронзающий и острый, как шпага. Девушка была очень красивая, с нежным овалом лица и серыми сияющими глазами; пепельные ее волосы развевал ветер. Она шла к дверям быстро, словно смущалась своей красоты и того, что она одна в снежно-белом платье среди тепло одетых прохожих. У порога она запуталась в длинной юбке и от этого смутилась еще больше.
Я вошла вслед за ними.
Пожилая женщина обернулась, щеки ее разрумянились от волнения. Что-то знакомое почудилось мне в лице. Мать и дочь прошли вперед и исчезли за одной из дверей этого старого пышного особняка, где сейчас находился Дворец Бракосочетаний.
Я поднялась по белой лестнице наверх. И спустя некоторое время увидела их снова.
Девушка стояла посреди зала на ковре, покрывающем блестящий, как озеро, паркет. Рядом с нею был юноша в очках, с длинной шеей и длинными, словно у подростка руками, с лицом, пожалуй, даже некрасивым, но непередаваемо привлекательным своей спокойной добротой.
У стола человек в темном костюме обращался к ним с речью. Слова были умные, торжественные, но, мне показалось, они еле доносились к ним сквозь ликующую музыку их счастья.
Зато мать впитывала эти слова всем существом.
Она сидела у стены среди других родственников и гостей, положив на колени широкие красные руки, и смотрела на говорившего не отрываясь, как школьница на учителя.
После каждой фразы она растроганно кивала головой, соглашаясь: «Так… так…» Лицо ее, залитое слезами, поразило меня своей нежностью и внутренней силой. И опять мне показалось, что я где-то уже видела ее.
Вечером мне надо было уезжать в Москву.
Перед отъездом я успела зайти в Эрмитаж. И едва я переступила порог теплого блистающего зала, едва глянули на меня из золота рам любимые полотна, как тотчас же в памяти встал тот Эрмитаж, каким я видела его в дни блокады.
Я шла тогда по безлюдным, скованным стужей залам, мимо стен, где леденели пустые рамы, точно покинутые дома, из которых ушли те, кто согревал их теплом жизни.
Люстра, сброшенная взрывной волной, лежала на паркете, как раздавленный цветок. Огромные часы с органом возвышались в углу; стрелки их остановились в тот миг, когда первый фашистский снаряд разорвался над Эрмитажем. Под каждой рамой было имя великого мастера и название полотна, и я шла мимо пустых рам, вспоминая каждую картину, заставляя память вернуть их хоть на миг в покинутый ими родной дом.
Рядом неслышно шагала женщина, закутанная в теплое мужское пальто; поверх пальто она накинула на плечи одеяло.
В самом начале войны драгоценные коллекции были вывезены из Эрмитажа на Восток, но часть наиболее громоздких экспонатов вывезти не удалось; они были упакованы и перенесены в подвалы музея. Хранить их осталась небольшая группа сотрудников, в том числе и эта женщина.
Тяжелые взрывы сотрясали здание, раздавался грохот, высокий, пронзительный звон разбитого стекла…