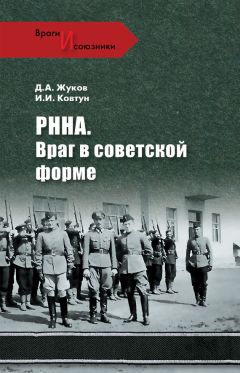Диана Виньковецкая - Единицы времени
Мои дальнейшие жизненные приобретения показывают, что часто нет даже градуса совпадений, и я не буду настаивать ни на одном. Хотя многие возражают: «Ну это про тебя, понятно, а про меня никто ничего скверного сказать не может». А почитайте‑ка письма своих друзей о вас третьему лицу! А послушайте разговоры о вас из‑за занавески! Надо ли говорить, что вы узнаете о себе массу неожиданного.
Вот у нас появляется еще один художник — Игорь Тюльпанов, его привела к нам Эра Коробова. Изысканный, утонченный, кажется, человек эпохи Ренессанса, во всяком случае точно не из наших двух веков. Рядом с ним и его картинами реальность кажется такой несовершенной, что невольно сожалеешь, что ушли времена расцвета искусства живописи (а были ли они?), что уже нет графов–меценатов, что повывелись ценители тонкого искусства — нет уважения к мелочам, которые окружают нас, заставляя думать о бесконечности. Его картины — пафос микрокосмоса. «Всесильный Бог деталей.» Всматриваясь в его картины, я часто думаю, что они изображают реальность, находящуюся за кажущейся действительностью. И из льющегося малахита извлекается смысл. Те, кто видел иллюстрации Игоря Тюльпанова, оформившего мою книжечку «Илюшины разговоры», могут понять, как мне было лестно, что он согласился это сделать, причем бесплатно — денег не было ни у него, ни у нас. (Он только появился в Америке.) И как он это сделал! А мой портрет работы Тюльпанова опять же — проникновение за кажущуюся действительность… «Всесильный Бог любви».
Многие тайны остались неразгаданными и ушли от нашего суда вместе с их обладателями. Там, в этих четырехстенных пространствах, среди полупустых комнат жизнь наполнялась сама собой.
Я не буду останавливаться на философских и литературных привязанностях, обсуждениях, восхищениях, интересах, скажу только, что мы «впитали христианское сознание с молоком русской культуры, в ее языке». Как вся неофициальная культура была антитезисом официальной, так и обращение в православие некоторых наших друзей, в самом общем виде, было тоже формой оппозиции. Для большинства интерес к христианству был скорее эстетического, а не религиозного порядка, и в нем было мало конфессионального. Всю романтическую традицию соотносили с личностью Иисуса. Иконы с расширяющимися нимбами. Литература. Живопись. Стихи: «Рождественская звезда» Пастернака, рождественские стихи Иосифа. Кулаков вместе с Яковом проводил часы в Эрмитаже. Для Якова христианство шло из глубины мыслей. Он считал, что еврей, обратившийся в христианство в России нашего времени, не изменяет иудаизму: «Мы были выброшены нашими дедами и отцами в духовный вакуум безрелигиозного миросозерцания и изрядно проварились в его горниле, демонстрируя миру противоестественное лицо еврейского атеизма. Христианство не отказ от еврейства, но единственное адекватное и достойное великой истории и великого народа его восприятие (восприятие не в узкопсихологическом, но буквальном, физиологическом и сакральном смысле)». Яков не мог уместиться в рамках любой конфессии, его манил духовный потенциал человека, будь то научные открытия, концепции, поэзия, живопись. Он хотел видеть всплески человеческого максимума, в чем бы они ни проявлялись; хотел видеть связь религии и науки. (Позднее Яков обменяется письмами с владыкой Шаховским, тоже интересующимся этими вопросами.)
Незримый подпольный центр русской культуры вдруг рассыпается — уезжаем на Запад. Обыск и обострение судьбы — из Агадырской экспедиции, где работал Яков, всех геологов, и плохих и хороших, перевели во ВСЕГЕИ, Всесоюзный геологический институт, а блистательного геолога Якова Виньковецкого не взяли. Одной из причин невзятия, помимо общечеловеческой зависти, была заинтересованность Комитетом государственной безопасности стихами Иосифа, которые они пытались отыскать в нашем доме и на работе, — этим интересом они перепугали геологическое начальство, которое решило держаться подальше от стихов.
«Яша, не уезжай!» — с такими словами приехал из Москвы друг Якова — поэт Геннадий Айги. Друзья уговаривали отказаться от отъезда, сердились. «Яков, ты должен оставаться здесь, твое влияние, твоя миссионерская натура нужны тут», — настаивал Борис Вахтин. После вечера у Игоря и Марины Ефимовых с одним из известных американских профессоров–славистов, как только мы втроем вышли на улицу, Борис сказал: «Яша, и ты хочешь жить среди таких людей? Купят — не купят. Учти — это еще лучшее, что там есть. Там все искусство, литература, живопись подчиняются стандартам общества, а не поставляют обществу свои стандарты. И вообще, там даже у самых образованных людей большая задержка в развитии. Тебе не с кем будет там говорить о большом и настоящем».
Я часто вспоминаю эту пугающую трезвость Бориса Борисовича Вахтина. Мы не предполагали, что ценности рассматриваются исключительно в свете их продаваемости, что твои изыскания никому не нужны и никто не купит ни твоих книг, ни твоих картин, если там нет пикантностей, чернухи, отбросов. До какой степени искусство зависит от финансов, нам не могло присниться ни в одном сне. И как часто только посредством скандала можно заявить о себе. Может быть, несчастье оказывается более благоприятным для открытия в себе стремлений к возвышенному? Такой парадокс: окружающая действительность избавляет тебя от серьезного к ней отношения и ты чувствуешь себя поэтом. Но я не буду развивать эту мысль.
Романтические иллюзии разбились о реальность. Мы увидели, какой цвет у свободы. «Ведь нет ничего хуже для человеческого сознания замены метафизических категорий категориями прагматическими.» И сколько стоит эта наука разочарования? Мы заплатили дорого за свою недооценку негативного человеческого потенциала. А что нужно иметь или не иметь в душе, чтобы ясно видеть то, что существует? Неужели это были мы? Мы — тут, наверное, приходится сказать: я — чувствовали, что вряд ли на Западе у нас образуется общество, «где будут все наши». И теперь я знаю точно: не образовалось. География, политика, работа, зависть разделили и рассыпали единения. Местоимение «мы» распалось на множество «я». «Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает».
Все жили в одном из красивейших городов, помимо родного языка и советского опыта каким‑то мистическим образом нас объединял и этот город «с его декорациями, лучшими в мире». Фактура и меланхолия нашего города облагораживала нас. Тогда у меня еще не было подозрения, что все мы друг другу чужие, — это пришло позже. Братства не получается.
«Индивидуальность, неповторимость, особенность каждой человеческой души, опыт каждого человека делают этот реальный психологический мир (единственный мир, непосредственно доступный человеку) каждого из нас абсолютно замкнутым, непроницаемым для другого я» — так напишет Яков в своем эссе о живописи. «В сущности, никто — никому — не нужен» — так неожиданно для меня определит Яков отношения между людьми уже в Америке. Это было сказано им после того, как наши ленинградские друзья, которых Яков любил и высоко ставил, не приехали навестить нас, работая не так далеко от нашего вирджинского поселения. В Америке метафизических воссоединений не произошло. И у Якова при его блистательном английском не завелось достойных собеседников среди новых соотечественников, а старых всех раскидало. После бурной имперской интеллектуальной жизни мы оказались в провинции, «среди ковбоев», и это было непросто. Была тоска по общению с внутренне близкими людьми. Глубокая острая мысль Якова оставалась на холостом ходу.
«Жизнь сложна. Затем она лишь и нужна, чтоб праздновать в ней день рожденья».
Один из дней рождения Иосифа, который он праздновал в своей квартире в мавританском доме Мурузи, я хорошо запомнила. Как известно, в том доме, похожем на торт, много чего происходило: жили Мережковские, Ахматова последний раз в этом доме видела Гумилева. А я первый раз шла к Бродскому на день рождения.
Идем с Яковом по знакомому Литейному проспекту в нужном нам направлении, прошли Дом офицеров, «обителью, где царствовал сквозняк, качался офицерский особняк». И вдруг видим самого раскачивающегося поэта Иосифа с сигаретой в руках — он прогуливается вдоль стены своего дома. «Раскачивался тенью на стене.» (как раз у той стены, где сейчас висит его мемориальная доска).
— Что ты тут стоишь? — спросил его Яков. А у меня мелькнула мысль: «еще одна оригинальность «наших» — приглашать в дом, а самим уходить».
— Вы идите в дом, — говорит Иосиф, — я жду людей. Из Москвы должны приехать люди, они не знают, где в Питере входы и выходы.
— Ну что ж, — засмеялась я, — будем веселиться без героя.
И мы вошли в комнату с громадными потолками и пилястрами, заполненную людьми, сидящими за столом; показалось, что приглашенные уже давно празднуют день рождения героя, не замечая его отсутствия. Общее впечатление было праздничным, стоял шум, мы втиснулись на поставленную на две табуретки доску. Не успели мы как следует пристроиться, как появился герой вместе с людьми, пришлось потесниться и усадить московских людей тоже на самодельную скамейку. Иосиф прошел на свое место в центре стола у окна. Среди общей болтовни слышно: «Вася Аксенов.» Я удивилась, когда узнала, что «людьми», которых ждал Иосиф, оказались Вася Аксенов с женой Майей. Аксенов был в зените славы, гости сразу переглянулись, когда его узнали.