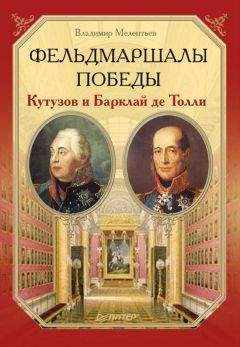Александр Гольдштейн - Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
— Кстати, о синдроме Ван Гога. В XIX веке, когда жил Винсент, нередко образовывался временной зазор между результатами труда художника и оценкой их со стороны выносящих свой вердикт инстанций, в связи с чем истинное понимание того, что делалось радикальными живописцами и поэтами, запаздывало порой на срок жизни целого поколения. Возможно ли это положение сегодня или нынешнее, поумневшее общество реагирует на все мгновенно и сама ситуация отсроченного понимания становится принципиально неосуществимой? Верно ли, что зазор между сколь угодно дерзким художественным поступком и адекватным откликом на него измеряется сейчас кратчайшими единицами времени?
— Я думаю, что и раньше большинство художников сравнительно быстро добивались признания, вспомним хотя бы импрессионистов. А с Ван Гогом — да, несчастный случай, что-то у него не заладилось, быть может, если б он вел себя менее вызывающе…
— Тогда бы он не был Ван Гогом…
— Впрочем, и он ведь был оценен в своем кругу, люди, находившиеся с ним рядом, отлично догадывались об уровне его работ.
— Круг по размерам ничтожный…
— Ничтожный, однако удельный вес входивших в него фигур, как выяснилось потом, был колоссальным. Так или иначе, и в XIX веке дождаться правильного к себе отношения удавалось при жизни. Уж на что невероятный авангардист Уолт Уитмен, а даже он после довольно короткого периода неприятия успел сподобиться репутации национального поэта, классика, ему рукоплескали огромные залы, публика вставала при упоминании его имени. Полагаю, и сегодня все обстоит примерно так же: художники, говорящие необычным языком, в пределах собственной жизни совпадают с общественными потребностями, временной зазор между их деятельностью и ее восприятием истеблишментом, институциями — невелик. Разумеется, всегда есть и будут отщепенцы в народной семье, но чтобы полностью выпасть из границ понимания — по правде, я не вполне представляю, что нужно для этого совершить, какую произвести революцию новизны. Не уверен даже, что в этом есть логика, к ван-гоговскому казусу, вероятно, примешались и некие посторонние мотивы, связанные, повторяю, с его непривычным поведением. Он и его окружение ведь были людьми очень странными, чокнутыми, они рисовали с натуры, постоянно куда-то ездили, придавая чрезвычайное значение внешнему миру, будучи связанными с ним. Теперь-то, чтобы изобразить дерево, натура не нужна, все, что можно было нарисовать с натуры, уже нарисовано, а их эта идея непосредственного взаимодействия с природой буквально держала за горло. Вообще я должен сказать, что непризнанных гениев не бывает; даже тот, кто, на первый взгляд, существовал в облаке непризнания, в действительности, как Рембрандт, был окружен профессионально вменяемой средой, пусть узкой, зато квалифицированной, знавшей ему цену. А для подлинного, тотального непонимания нужен такой атомный взрыв, такая чудовищная вспышка, нужно все вокруг спалить дотла! Свидетельств этому вроде бы нет.
— Давайте поговорим теперь о вашей среде, о художниках и писателях, с которыми вы начинали работать в одном городе, в Москве, на стыке 1950–60-х годов, о компании, откуда вы родом. Несколько десятилетий прошло, многих раскидало по свету, иные умерли от незадавшейся жизни, другие, завидно здравствующие, сумели поймать и надолго возле себя удержать громкое международное счастье. Все они получили свое по делам своим? Судьба распорядилась ими, каждому воздав по заслугам?
— Если бы речь шла о Франции, Америке или Израиле, то на вопрос этот было бы ответить легко, ибо в системах подобного типа судьбы авторов, в том числе их конфликты с властями и публикой, подчиняются естественным закономерностям. Но в России все происходило по-другому, там параллельно советскому миру и автономно от него, даже если и соприкасаясь с ним по линии заработка, обитала малая группа художников, литераторов, композиторов, окруженных здоровым государством и глубоко больным обществом. Разлагающееся общество, в котором отсутствовало духовное развитие, а было только технологическое, не знало собственных классиков, его гражданам дозволялось знакомиться лишь с разрешенными именами — незачем в тысячный раз говорить о его псевдоискусстве, псевдолитературе. Все мы там выросли, и если советская власть кончилась, то советский человек остался и даже обладает изрядной электоральной силой, что показали недавние выборы. Сложно ответить на заданный вопрос, опыт был поставлен в ненормальных условиях, это как играть в шахматы при землетрясении. В том мире все было прервано, отсутствовала преемственность достижений, распалась иерархия ценностей. Она так и не восстановлена, денег на это в России нет, во всем, что касается искусства, организации выставок, страна передоверяет ведение своих дел Западу и затем предъявляет ему претензии — мол, Запад не тех отобрал, он формирует искаженную картину нашего искусства. А Запад отвечает — пожалуйста, формируйте ее сами, после чего все снова упирается в нехватку средств у российских музеев, которые и выставки-то устраивают за деньги: пришел, заплатил, выставился.
Уродство ситуации отчетливо видно на примере, допустим, Левого МОСХа — эти ошметки сезаннизма по-прежнему болтаются в воздушных ямах русского творчества, более того, бывшим левым мосховцам принадлежит власть. Или: чего стоит причисление Арсения Тарковского (в 1970–80-е годы) к рангу значительнейших стихотворцев! Дикий абсурд, иначе не определишь. За Тарковским тянется длинная череда других авторов, советских поэтов, некоторые из них уже скончались, их хоронят с почетом. Можно подумать, это похороны целой культуры, только к русской культуре эти евреи не имели никакого отношения. Наоборот, недавнюю смерть Игоря Холина, пролагателя новаторских путей, общество не заметило точно так же, как и его долгую жизнь и работу; это ли не превратное положение вещей. И мы видим кое-кого из наших близких друзей, не хочу называть имена, ставших прямо-таки литературными фигурами номер один, а они не номер один, не два и даже не пять.
Запад, воспитанный в убеждении, что культура России великая и таковой, несмотря на все испытания, остается, создает собственные схемы ее развития, но исследователей, всерьез разрабатывающих это месторождение, немного, основная их часть говорит на выученном литературном языке. Значение слов они понимают, а самих слов не чувствуют — немцы, немые, что им Гекуба, что они Гекубе. То же самое с современным изобразительным творчеством — обыкновенно, за редким исключением, занимаются им те, кто напрочь в нем не смыслит. Да и чего от них требовать, российское искусство должны изучать русские искусствоведы, иначе возникает нелепость, вот показательный образчик ее — выставка еврейского русского искусства в Еврейском музее Нью-Йорка. Куратор Сюзан Гутман слепила, к радости присутствовавших, сущую глупость, ни на что иное она решительно не способна. Лишь иногда материала касаются действительно глубокие ученые, рассматривающие проблематику в универсальном, европейско-американском контексте. Вся Россия им, разумеется, тоже неизвестна, они довольствуются фрагментами для построения своих иерархий, на взгляд Запада, достаточно полных, позволяющих судить о процессах и вехах, причем объектом фрагментарного описания становится и искусство начала столетия, эпохи авангарда — все здесь сбивается на одни и те же хрестоматийные имена, а прочие, подчас весьма важные фигуры игнорируются. Я повторяю: требовать от Запада нечего, это дело российских искусствоведов, но в итоге русские художники — сироты, за ними никто не стоит, нет за ними страны. За израильтянином стоит Израиль, его музеи, истеблишмент, деньги, критики со своими концепциями, то же самое в распоряжении художников из других устоявшихся, цивилизованных государств. И только русские — сироты. Слава Богу, находятся еще какие-то добрые европейцы, американцы, берущие их под защиту, — никому, кроме этих опекунов, они не нужны, и куда бы еще несли они свои жалобы.
— Всюду слышатся речи о тяжелом кризисе, переживаемом современным искусством, и, по моему скромному убеждению, очень даже оправданные. Суть кризиса, пожалуй, не в исчерпанности символического языка, хотя и этот момент надо учесть, а в распадении связей, соединявших работу художника и человеческую душу. Возникло удивительное расположение звезд, при котором в сознании человека слово «искусство» не отзывается ничем значительным, экзистенциально существенным, потому что впервые со времен Ренессанса и уж тем паче впервые с финальной трети XIX века, когда сложились контуры новой эстетики и новой морали искусства, публика ничего не ждет от артиста, ничего не ждет от творчества. Конечно, она по старой памяти любит ходить на выставки, но рассмеется или останется в недоумении, если ей скажут, что особая этика изобразительной деятельности не сводится к дизайну буржуазных пространств, что она предполагает (вернее, предполагала) ответственное отношение художника к миру — вплоть до намерения его изменить, просветить, исцелить. Эта фанатичная уверенность артиста в социальной и религиозно-этической ценности его призвания передавалась зрителю, в свой черед убежденному, что он, посредством созерцания изображений, причащается священной вере и обряду. В наше время стороны уже не настаивают на этом союзе, он распался, и неясно, за счет чего может быть снова скреплен. Место же, оставшееся в душе пустым после ухода из нее искусства, заполняется искусством другим, уже не заикающимся о свойственных ему прежде амбициях.