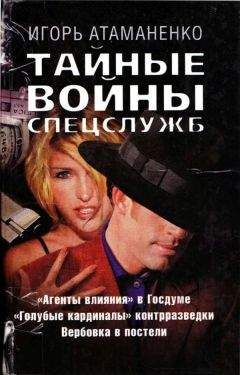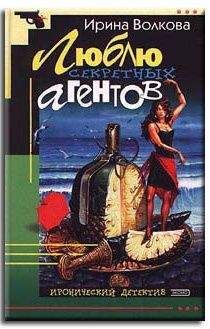В. Зебальд - Естественная история разрушения
Отклики на Цюрихские лекции нуждаются в послесловии. То, что я говорил в Цюрихе, мною самим было задумано всего лишь как незавершенное собрание разнородных наблюдений, материалов и тезисов, и я рассчитывал, что во многом оно потребует дополнений и исправлений. В частности, я полагал, мое заявление, что гибель немецких городов в последние годы Второй мировой войны не нашла места в сознании вновь формирующейся нации, будет опровергнуто ссылками на примеры, которые я упустил. Однако этого не случилось. Более того, все, о чем мне сообщили в десятках писем, подтверждает мое мнение, что родившиеся после войны, пожелай они опираться исключительно на свидетельства писателей, едва ли сумеют составить себе картину хода, масштабов, характера и последствий катастрофы, в которую ввергла Германию воздушная война. Конечно, кое-какие подходящие тексты существуют, но то немногое, что сохранила для нас литература, ни по качеству, ни по количеству не сопоставимо с экстремальным коллективным опытом той эпохи. Факт разрушения почти всех более-менее крупных и множества мелких немецких городов, казавшийся тогда поистине непреложным и поныне определяющий облик Германии, утвердился в созданных после 1945 года произведениях как отмалчивание, как отсутствие, типичное и для других областей дискурса от семейных разговоров до историографии. По-моему, весьма знаменательно, что гильдия немецких историков, известная своим невероятным прилежанием, до сих пор, насколько я вижу, не создала на эту тему ни всестороннего, ни хотя бы основополагающего исследования. Только военный историк Йорг Фридрих в 8-й главе своего труда «Закон войны»[108] довольно подробно останавливается на эволюции и последствиях разрушительной стратегии союзников. Примечательно, однако, что к этому анализу отнюдь не проявили того интереса, какого он заслуживает. Скандальный дефицит, с годами все более для меня отчетливый, напомнил о том, что я рос с ощущением, будто мне о чем-то умалчивают, и дома, и в школе, и в книгах немецких писателей, которые я читал в надежде побольше узнать о кошмарах, скрытых на заднем плане моей собственной жизни.
Мои детство и юность прошли в местах, которые оказались мало затронуты прямыми воздействиями так называемых боевых операций, а именно в северных предгорьях Альп. В конце войны мне как раз исполнился год, и я, конечно, не мог сохранить в памяти впечатления, опирающиеся на реальные события времен разрушения. И все-таки по сей день, когда я вижу фотографии или смотрю документальные фильмы военных лет, мне кажется, будто я, так сказать, родом из этой войны и будто оттуда, из этих не пережитых мною кошмаров, на меня падает тень, из которой мне никогда вообще не выбраться. В юбилейной книге об истории села Зонтхофен, выпущенной в 1963 году по случаю получения статуса города, говорится: «Многое у нас отняла война, но остался нетронутый и от веку цветущий, прекрасный родной ландшафт»[109]. Я читаю эту фразу – и картины полевых дорог, пойменных пастбищ и горных лугов сливаются у меня перед глазами с картинами разрушения, и странным образом именно эти последние, а не ставшие совершенно нереальными идиллии раннего детства вызывают во мне что-то вроде любви к родине, быть может, оттого, что представляют собой более мощную, высшую реальность первых лет моей жизни. Теперь-то я знаю, что, когда я лежал на балконе зефельдского дома в так нзываемой комнатной коляске и щурился, глядя в белесое небо, по всей Европе в воздухе висели клочья дыма, над арьергардными сражениями на востоке и на западе, над руинами немецких городов и над лагерями, где сжигали несчетных узников из Берлина и Франкфурта, из Вупперталя и Вены, из Вюрцбурга и Киссингена, из Хилверсюма и Гааги, Намюра и Тионвиля, Лиона и Бордо, Кракова и Лодзи, Сегеда и Сараево, из Салоник и с Родоса, из Феррары и Венеции – едва ли в Европе найдется место, откуда в те годы никого не депортировали в смерть. Даже в самых отдаленных деревнях на острове Корсика я видел мемориальные доски, на которых написано «morte à Auschwitz»[110] или «tué par les Allemands, Plossenburg 1944»[111]. Кстати, в корсиканской Моросалье, в перегруженной пыльным псевдобарочным декором церкви, я – позвольте мне это отступление – видел еще и картину, что висела в спальне моих родителей, олеографию, изображающую по-назарейски красивого Христа: ночью, перед началом крестного пути, он сидит в синем, освещенном луной Гефсиманском саду в глубокой задумчивости. Долгие годы эта картина висела над супружеской кроватью моих родителей, а потом вдруг пропала, вероятно, когда был куплен новый спальный гарнитур. И теперь она, или, во всяком случае, точно такая же, стояла здесь, в сельской церкви Моросальи, на родине генерала Паоли, в темном углу, прислоненная к цоколю бокового алтаря. Родители рассказывали мне, что купили ее в 1936-м, незадолго до свадьбы, в Бамберге, где отец служил шорником в том же кавалерийском полку, где десятью годами раньше начал свою военную карьеру молодой Штауффенберг. Вот каковы бездны истории. В них все перемешано, и когда в них заглядываешь, становится жутко и кружится голова.
В одной из своих новелл я рассказывал, что в 1952-м, когда вместе с родителями, братьями и сестрами я переехал из родной деревни Бертах за 19 километров в Зонтхофен, самым многообещающим мне казалось то, что ряды домов там перемежаются участками развалин, ведь с тех пор как я побывал в Мюнхене, слово «город» было для меня связано в первую очередь с горами обломков, закопченными брандмауэрами и зияющими оконными проемами, за которыми видна только пустота. 22 февраля и 29 апреля 1945 года Зонтхофен, в сущности абсолютно незначительный населенный пункт, подвергся бомбардировкам, вероятно, потому, что там располагались две большие казармы горной пехоты и артиллерии, а кроме того так называемый «Орденский замок» – одна из трех элитарных школ для подготовки руководящих кадров, созданных сразу после прихода нацистов к власти. Что до воздушного налета на Зонтхофен – помнится, лет в четырнадцать-пятнадцать я спросил у бенефициата, преподававшего религию в Оберстдорфской гимназии, как согласуется с нашими представлениями о промысле Божием то, что при этом налете были разрушены не казармы и не гитлеровский замок, а приходская и больничная церкви, только вот ответ память не сохранила. Точно установлено одно: в результате бомбардировок Зонтхофена приблизительно к пятистам местным жителям, погибшим на фронтах и пропавшим без вести, добавилось около сотни гражданских жертв, в том числе, как я некогда записал, Элизабет Цобель, Регина Оальвермозер, Карло Мольтразия, Константин Зончак, Оерафина Бухенбергер, Цецилия Фюгеншу и Виктория Штюрмер, монахиня из дома престарелых, орденское имя ее – мать Зебальда. Из разрушенных в Зонтхофене и до начала 1960-х не восстановленных построек мне запомнились прежде всего две. Во-первых, тупиковая железнодорожная станция (до 1945 года она находилась в центре деревни), главный дебаркадер которой Альгойская электростанция использовала как склад катушек с кабелем, телеграфных столбов и проч., а в более-менее неповрежденной пристройке учитель музыки Гогль каждый вечер давал уроки кое-кому из своих учеников. Особенно зимой было странно видеть, как в единственном освещенном помещении этого разрушенного здания ученики водят смычками по струнам альтов и виолончелей, будто сидя на плоту, дрейфующем во мраке. Вторая сохраненная в памяти руина – так называемый Херцшлосс, сиречь Душевный дворец, возле протестантской церкви, вилла конца XIX – начала XX века, от которой уцелели только чугунная садовая ограда да подвал. Участок, где катастрофа пощадила несколько красивых деревьев, в 1950-е годы уже совсем зарос, и мы, дети, часто проводили целые дни в этой чащобе, которая по милости войны возникла прямо посреди городишка. Помню, спускаясь по лестнице в подвал, я всегда чувствовал себя не очень уютно. В подвале пахло плесенью и сыростью, и я вечно боялся наткнуться на дохлое животное или на человеческий труп. Спустя несколько лет на этом участке открыли магазин самообслуживания, в одноэтажной уродливой постройке без окон, и некогда красивый сад виллы окончательно исчез под асфальтом парковки. Приведенная к наименьшему общему знаменателю, это и есть основная глава в послевоенной немецкой истории. В конце 1960-х, впервые приехав из Англии в Зонтхофен, я с содроганием увидел, что на наружной стене магазина самообслуживания намалевана (видимо, в рекламных целях) фреска-натюрморт. Размером примерно шесть на два метра, сплошь в багрово-розовых тонах, она изображала огромное блюдо мясных закусок, какие были тогда непременной принадлежностью ужина в любом порядочном доме. И все же мне необязательно возвращаться в Германию, на родину, чтобы оживить в памяти время разрушения. Здесь, где я живу теперь, оно тоже часто напоминает о себе. Из семидесяти с лишним аэродромов, с которых взлетали самолеты, несущие гибель в Германию, большая часть располагалась в графстве Норфолк. Примерно десять из них по-прежнему принадлежат военному ведомству. Еще несколько находятся во владении аэроклубов. Однако львиная доля после войны была закрыта. Взлетные полосы заросли травой, вышки контрольно-диспетчерских пунктов, бункера и ангары из гофрированного железа стоят полуразрушенные среди ландшафта, который зачастую оставляет несколько призрачное впечатление. Там словно бы витают мертвые души тех, кто не вернулся с задания или погиб в чудовищных пожарах. Непосредственно по соседству со мной расположен аэродром Оизинг. Иногда я выгуливаю там собаку и размышляю о том, как все было, когда в 1944-1945-м здесь поднимались в воздух самолеты с тяжелым грузом и летели за море курсом на Германию. А еще за два года до этих рейдов во время налета на Норидж самолет люфтваффе «Дорнье» рухнул на поле недалеко от моего дома. Один из четырех погибших членов экипажа, обер-лейтенант Боллерт, родился со мною в один день и был ровесником моего отца.