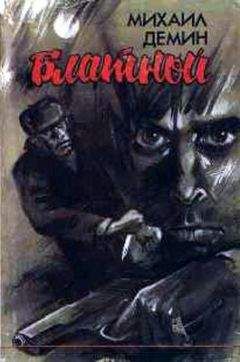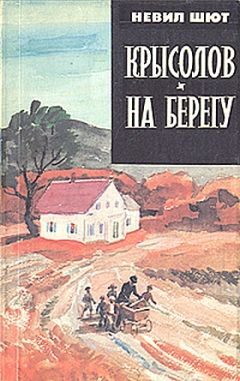Абдижамил Нурпеисов - Долг
Ты сделал шаг, потом другой и, скованный нерешительностью, медленно пошел к ревущему в ночи морю. На душе была сумятица. В тот вечер ты был особенно зол на себя. Ну, скажи-ка на милость, какого дьявола ты притащился сюда? В самом деле, не собачий ли твой характер всему виной? И вот потому, может, дома ты никак не угодишь жене, здесь — рыбакам? Добро бы ладил с начальством. Так нет же... Стоит только показаться в районе, как вечно недовольное начальство уже с порога встречает хмурым: «План... как план?» Да не только они, любой, дослужившийся до портфеля, перед тобой нос дерет. На собраниях, как будто во всем районе, ты один срываешь план добычи рыбы, все на тебя накидываются, клюют. Тесен и тревожен стал мир для тебя, вот потому и в родном ауле ты не знаешь покоя. Промелькнет ли вдали машина, прогрохочет ли в небе самолет, ты вздрагиваешь. Тебе чудится, что едет уполномоченный пыль из тебя выбивать. И даже ночью, во сне, подстерегают тебя одни неурядицы; какие-то тревожные думы неотступно мутят душу, едва коснёшься головой подушки и закроешь глаза, чаще всего видишь себя затравленного, обливающегося потом на совещании районного актива в клубе «Маяк». И еще снится, будто ты, теряя силы, с трудом поднимаешься по ступенькам на второй этаж заметного здания в центре районной площади. И всякий раз застреваешь на полпути, на той лестнице. И что странно: сколько бы ты потом ни вспоминал свой сон, никогда не мог восстановить вторую половину пути: как ты, волоча ноги, несмело направлялся в кабинет Ягнячьего Брюшка под насмешливым взглядом секретарши в приемной. Просыпаясь, ты ломал себе голову: может, хотя бы во сне был приветлив с тобой , хозяин кабинета. Или и во сне, как наяву, оставался непреклонным, брюзгливо-насупленным и, будто не замечая твоего появления, сидел, уткнув нос в бумаги? Нет, здесь в твоей памяти был какой-то темный, поглощающий все и вся провал. Помнился лишь просторный, хоть устраивай конные скачки, кабинет. И еще ты во сне, как наяву, видел большую карту Аральского моря тех добрых старых времен, когда оно от наплыва весенних паводковых вод вспучивалось и вздувалось, выходило из своих берегов, грозно ворочалось под самым боком города, а белопенные волны, бывало, выплескивались за каменной дамбой, добегая чуть ли не до порогов прибрежных домишек. Эта памятная карта и во сне висела меж двух окон. Ты видел ее, едва входил в кабинет. А хозяина кабинета замечал лишь потом, и то когда оказывался вдруг у самого стола. Со своим давно уже наметившимся мягким «ягнячьим брюшком», с серым, ко всему безучастным лицом сидел он отрешенно, и нельзя было определить, дремлет ли он или бодрствует. И во сне, как и наяву, он не сразу поднимал голову, как бы с усилием размыкал припухшие веки, тупо направляя на тебя клейкий какой-то взор, и неизменно вопрошал: «Рыба... где рыба?» Мало того, что раскаленное аральское солнце нещадно припекало сквозь стекла. Еще и этот клейкоглазый, не обращая внимания на все твои доводы и оправдания, все гнул свое: «Ну а рыба? Где рыба?» Получалось, будто тупым пестом долбят тебя в темя. И от песта этого голова начинала пухнуть. Не зная, как избавиться от липкого взгляда, ты поневоле ерзаешь на стуле, озираешься по сторонам и обливаешься холодным потом. А клейкий взор не отпускает, щупает, обволакивает тебя. И уже сам воздух кабинета становится подобен расплавленному свинцу. Бессилие одолевает тебя еще и потому, что чувствуешь невозможность как-то доказать, объяснить этому клейкоглазому, куда подевалась рыба с тех пор, как море начало усыхать... И ты, пытаясь что-то сказать, кричишь, рвешься из чьих-то властных неумолимых рук и, каждый раз задыхаясь, со стоном просыпаешься все в том же бессилии, в ужасе, что не только один клейкоглазый, но и другие не поймут тебя. Да, странной стала твоя жизнь в последнее время, — с тех пор, как явь превратилась в дурной сон, а сам твой сон — в невесомую явь.
Где и как только не подводил тебя твой собачий характер... Будь на твоем месте кто-нибудь другой, побойчее, он, в лучшем случае, заночевал бы у рыбаков, поговорил бы, посмотрел на их житье-бытье, а с рассветом укатил бы обратно восвояси... И если бы ты сдержал свое слово и в обещанный час, возбужденный, радостный, заявился бы домой — да, вот тогда, может быть, и забыла бы женушка твоя все и, может статься, приветливо вышла бы навстречу. Но ведь ты забыл свои обещания... впрочем, нет, не забыл, ни на одно мгновение не забывал. Какое уж тут «забыл», если в лачуге среди рыбаков неотступно стояла она перед твоими глазами — вся холодная, неуступчивая. Отвернулась от тебя, поджав пухлые губы. И еще ты видел себя как бы со стороны, растерянно застывшего после того, как она решительно выпалила: «Не поедешь!» и вышла из комнаты. И, до подробностей вспоминая все это, ты убеждал себя: надо возвращаться... Надо, если даже окончательно уронишь себя этим в глазах мрачно насупленных рыбаков. И пусть тогда презирают сколько угодно. Пусть сколько угодно изощряется в своих издевках злой, как затравленный хорек, старикашка Кошен. И велик был соблазн — махнуть на все и всех рукой и немедля укатить назад, в аул. Раз нет рыбы и удача отвернулась от вас, что можешь сделать ты? В воду, что ли, за ней нырять? Коли решился, так не мешкай, уезжай! И уже сознавая в глубине души, что никуда отсюда не уедешь, ты, однако, не переставал терзать себя, оттягивая решение. И наутро все еще продолжал испытывать терпение угрюмых рыбаков, настороженно ожидавших твоего решения, а потом как-то само собой вырвалось у тебя грубоватое:
— Бог даст, после первого подледного лова все вместе и вернемся домой...
И недовольство мгновенно растаяло. Даже зловредный старикашка, не прощавший обычно никому ни единой промашки, вдруг подобрел, просиял. Резкий, как у чайки, пронзительный голос его вдруг обрел непривычные для него благодушные нотки. И глазки-буравчики, в упор следившие за всеми и каждым, будто помягчели.
Проходил день за днем. Неделя за неделей. Осень понемногу уступала место суровому предзимью. Хлынул холодный ноябрьский ливень, напитал иссохшую с весны землю, и сырая стынь надолго поселилась в их камышовой хибарке. Потом ударил один морозец, за ним другой, укрепил расползавшиеся было под дождями берега, застеклил тонким льдом мелкие озерца. Сковалось, попряталось все, и только море ревело неистово, ворочалось, ворчало ветрами. Но привычные ко всему рыбаки не обращали на это внимания. Промозглый ветер гулял в трухлявой хижине, под утро инеем брались стены. Озябшие за ночь рыбаки просыпались, вставали чуть свет; вылезая из-под одеяла, ежились в ознобе, кряхтели, поспешно натягивали одежду, кое-как просохшую у очага. На ходу завтракали холодной рыбой, оставшейся с ужина, хватали под мышки весла и шест и гуськом спешили к морю, гулко топоча по мерзлой до звона земле. У берега сталкивали в воду лодки, привычно вскакивали в них и, яростно, до хруста в костях загребая против крутых волн, направлялись туда, где, по смутному их расчету, а может, по древним приметам, должен был пройти косяк рыбы, ставили сети. И так изо дня в день. Порой сети, поставленные накануне, сильным течением скручивало в веревки. В них безнадежно запутывались иногда коряги и водоросли, набивался донный ил, и тогда рыбаки, надрываясь, с великой мукой вытаскивали сети-неводы на берег и потом, насквозь промокшие, весь день распутывали их на ветру. Это была бесплодная, адская подчас работа. Вконец измученные, озябшие и голодные, тащились они вечером в остывшую за день хибарку. Заметно было, как исхудали все, особенно за последнее время. Обросли щетиной и грязью. На нескончаемом ветру и морозе лица задубели, потрескались, покрылись черными засохшими струпьями. Пальцы распухли, день ото дня становились непослушнее. Натруженные руки казались лопатами, от весел и рыбацкой бечевы наросли на них, затвердели панцирные мозоли. И оставалось только поражаться, как этими неуклюжими, точно совковые лопаты, заскорузлыми руками можно было еще что-то держать.
* * *
Взрыв хохота, будто порыв ветра, развеял его думы. Он резко поднял голову. Вначале ничего не понял. Будто очнувшись ото сна, недоуменно поозирался вокруг и уставился на залившихся безудержным, мальчишеским почти смехом рыбаков. И только сейчас обратил внимание на то, как от ярко разгоревшегося, мечущего искры в потолок огня в лачуге посветлело и повеселело. Еще ничего не соображая, он смотрел то на привычную обстановку, то на закопченный казан, в котором уже побулькивало, то на хохотавших до слез рыбаков...
Заинтригованный неожиданным их весельем, он обвел взглядом каждого. Можно подумать, что сегодня каждую ячею сетей рыбиной забило. Только и слышно: «Ха-ха!.. Кхе-кхе-е!» А вон тот, посередке, вовсе разошелся. На голове баранья шапка, на плечи кожушок накинут, ишь, как он хахакает, выпятив плоскую грудь, задрав бороденку. «Да ну его, — визгливо хохочет, захлебывается, — не говорите мне о нем. Он же лихо красноглазое!»