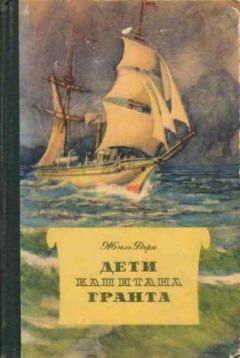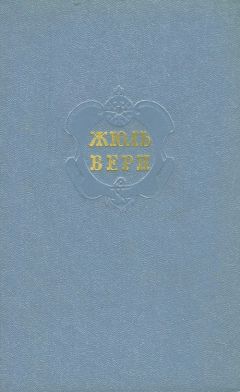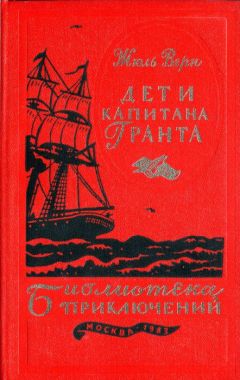Фрэнсис Гарт - Брет Гарт. Том 6
Главным развлечением китайца в ту пору были азартные игры, так как театр, где ставились бы китайские пьесы (каждая тянулась месяцами и изображала историю целых династий), еще не был построен. Зато к его услугам были фокусники, время от времени выступавшие и в американских театрах. Мне вспоминается одно занятное происшествие, связанное с выступлением таких заезжих артистов. Труппа была приглашена в театр, так как славилась среди китайцев, и дирекция не позаботилась устроить пробное выступление. Театр был заполнен солидной и респектабельной публикой, были и дамы. Но в середине представления зал вдруг опустел; дали занавес, и директор, встревоженный, весь красный, пролепетал какие-то извинения перед пустыми скамьями, после чего прерванный спектакль уже не возобновился. Ни из газетных отчетов, ни из опубликованного дирекцией извинения так и нельзя было понять, что же произошло. Беспутный Сан-Франциско веселился, и суть происшедшего была афористически выражена следующим образом: «В Сан-Франциско нет ни одной женщины, которая побывала бы на этом спектакле, и ни одного мужчины, который бы там не был». Однако даже самые ярые ненавистники Джона соглашались, что он не повинен в каком-либо злом умысле.
Не было его вины и в другом случае, который, пожалуй, оказался более поучительным и навсегда лишил китайцев славы замечательных лекарей. Разнесся слух, что один китайский врач, практиковавший исключительно среди своих соплеменников, добился вдруг чудодейственного излечения двух или трех американцев. Без всякой рекламы, подстегиваемые, очевидно, лишь собственным любопытством, его вдруг начали осаждать страдальцы, жаждущие исцеления. Сотни пациентов тщетно пытались проникнуть в его переполненную приемную. Двое переводчиков трудились день и ночь, объясняя новому медицинскому оракулу жалобы недужного Сан-Франциско; в обмен на звонкую монету они раздавали его лекарства — порошки в маленьких коробочках. Тщетно профессиональные медики доказывали, что китайцы не имеют высшего медицинского образования и что их религия, запрещающая вскрывать и анатомировать трупы, естественно, ограничивает их познание функций организма, который они лечат своими лекарствами. Наконец, нашим врачам удалось получить список лекарств, известных в китайской фармакопее, и этот список негласно был распространен среди публики. По вполне понятным причинам я не смею поместить его на этих страницах. Но вот вывод, сделанный с обычным калифорнийским юмором: «Каковы бы ни были сравнительные достоинства китайской медицины перед американской, простое чтение этого списка показывает, что китайские средства вызывают ни с чем не сравнимый рвотный эффект». Горячка кончилась в один день; исчезли жрецы-переводчики со своим оракулом, не стало и табличек китайских врачей, которые множились со дня на день, и в одно прекрасное утро Сан-Франциско проснулся исцеленным от своего безумия, стоившего ему не одну тысячу долларов.
Мое вольное бродяжничество не уводило меня за пределы города по той простой причине, что за городом деться было некуда. С одной стороны к Сан-Франциско подступали вечно бегущие, однообразные в своем непостоянстве волны залива, с другой — до самого берега Тихого океана тянулась гряда таких же непостоянных и однообразных в своем движении песчаных дюн. Две дороги пересекали эту пустыню: одна вела к кладбищу на Одинокой горе, вторая — к «Дому среди скал» — эту дорогу метко называли «восьмимильным штопором с коктейлем на конце». Но юмор не ограничивался этой удачной остротой. Дом среди скал — не то ресторан, не то просто салун — выходил на океан к Тюленьей скале, где всеобщий интерес привлекали играющие тюлени; отсюда и особая эмблема заведения. На всех кувшинах, бокалах, рюмках были выгравированы старинным шрифтом буквы «L. S.» (Locus Sigilli) — тюленье лежбище.
Другая дорога приводила к Одинокой горе — этот угрюмый мыс врезался в бухту Золотые Ворота; удивительной красоты закаты не смягчали гнетущую таинственность этого места. Здесь находили последнее прибежище счастливцы и неудачники, здесь памятники с высеченными на них именами сильных мира сего и немые, голые надгробья безвестных лепились рядом на песчаных склонах. Я видел, как хоронили уважаемых граждан, мирно скончавшихся в своих постелях, и отчаянных головорезов, погибших от пули или ножа; и тех и других провожала толпа рыдающих друзей и часто отпевал один и тот же священник. Но страшней безнадежного одиночества было полное отсутствие покоя и мира на этой мрачной пустынной возвышенности. По какой-то злой иронии судьбы ее местоположение и климат словно олицетворяли изменчивость и непокой. Вечные пассаты разметывали и уносили сухой песок, обнажали гробы первых поселенцев, хоронили под всепоглощающими песчаными волнами венки и цветы на свежих могилах. Ничто не могло расти под этими ветрами: ни деревца, чтобы защитить могилы от зноя, ни травинки, чтобы противостоять предательскому вторжению песков. Мертвых даже в могилах преследовало и мучило немилосердное солнце, неустанный ветер, неугомонные волны. Опечаленные близкие уходили, и на их глазах двигались дюны и менялся самый контур горы; и последнее, что видел взор, были торопливые, жадные волны, вечно спешащие к Золотым Воротам.
Если меня спросят, что же самое главное, самое характерное для Сан-Франциско, я отвечу: неизменные его спутники — солнце, ветер и море. Мне порой чудилось — пусть я ошибался, — что это и есть те силы, что движут могучую, безостановочную жизнь города. Я не могу представить себе Сан-Франциско без пассатов; не могу представить, чтобы этот причудливый, многоликий, пестрый хоровод кружился под иную музыку. Они всегда ждут, как только я вспоминаю дни моей юности. А в мечтах о далеком прошлом, что обуревали меня в те годы, они казались мне таинственными «vientos generales»[27] и гнали домой филиппинские галеоны.
С неизменным упорством они полгода дуют с северо-запада, а потом еще полгода — с юго-запада. Они появляются вместе с утром, веют в лучах назойливого солнца и поднимают Сан-Франциско ото сна; они дуют и в полдень, подхлестывая пульс его жизни; не утихают и ночью, гонят людей в постель с мрачных улиц, освещенных неровным газовым светом… С наветренной стороны они оставляли свою печать на каждой улице, на каждом заборе и коньке крыши, на далеких песчаных дюнах; они подгоняли медлительные каботажные суда, торопя их домой и выгоняя снова в море. Они вздымали и баламутили воды бухты на пути к Контра-Коста — туда, где прибрежные дубы с наветренной стороны были подстрижены так аккуратно и ровно, словно над ними поработали садовые ножницы.