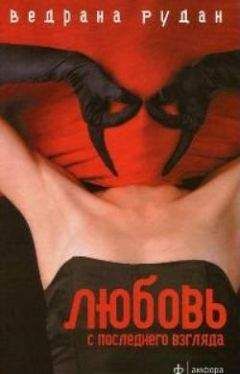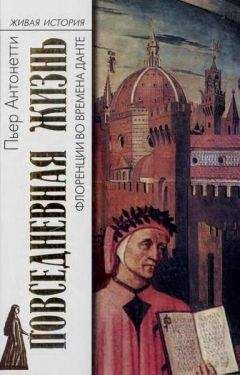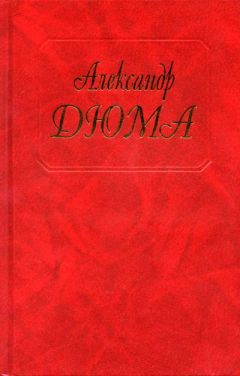Камни Флоренции - Маккарти Мэри
Палаццо Веккьо, бывшее место заседаний правительства, возвышается над площадью, которой присуща суровая мужественная красота, отнюдь не нарушаемая грубостью больших мраморных групп. Башня I Галаццо Веккьо, подобно каменной игле для инъекций, безжалостно пронзает небо; собрание скульптур под ней представляет страсти в их крайнем проявлении — словно распри и раздоры, достигшие высшей точки. На любой другой площади, в любом другом городе парад убийственных сцен в Лоджии деи Ланци (названной так в честь швейцарских ландскнехтов Козимо I, несших там караул и наводивших ужас на горожан) произвел бы эффект terribilità или чувственного ужаса, но Флоренция, с присущим ей духом классицизма, выстроила их под сводами чистых и утонченных арок, которые словно обозначают верхний предел несчастий.
Эта площадь была светским центром города, удаленным от религиозного — площади Дуомо и Баптистерия, и от двух рыночных площадей. «Юдифь с головой Олоферна» работы Донателло перенесли сюда от Палаццо Медичи, где она была частью фонтана, и установили на aringhiera — низкой, окаймленной балюстрадой террасе Палаццо Веккьо, как символ общественной безопасности; надпись на цоколе гласит, что это сделал народ в 1495 году — сразу после изгнания Медичи и раздачи их богатств. Aringhiera (это слово имеет общий корень с английским «harangue» — публичная речь, обращение) служила трибуной, с которой синьория зачитывала народу государственные обращения и указы, и статуя Юдифи, отсекшей голову тирану; была призвана яснее, чем любые слова, символизировать триумф свободы народа над деспотией. Семью Медичи неоднократно изгоняли из Флоренции, но она постоянно туда возвращалась. Когда Козимо I провозгласил себя диктатором, он заказал Челлини «Персея и Медузу», чтобы увековечить триумф восстановленного деспотизма над демократией. В то же время, как полагают, некий горожанин заказал Микеланджело «Брута» (ныне статуя находится во дворце Барджелло) в память о поступке Лоренцино Медичи: того прозвали Брутом за то, что он убил своего дальнего родственника, гнусного тирана Алессандро [32]. Тот же самый Лоренцино прославился тем, что в припадке безумия разбил головы статуй на Арке Константина в Риме — смысл его поступка так и остался неизвестным, но он заслужил суровое осуждение другого своего родственника, папы Климента VII. Другой республиканец, Филиппо Строцци, происходивший из семьи знаменитых банкиров, когда Козимо I бросил его в темницу, нашел силы покончить с собой, воодушевившись примером Катона Утического.
Статуи на площади служили назиданием или «примером» для горожан, а долговечность материала, будь то мрамор или бронза, позволяла надеяться на то, что урок будет бесконечен. На прочности мрамора, камня и бронзы основана связь между искусством скульптуры и властью, которые видят идеал в стабильности и постоянстве. В греческой религиозной традиции статуя первоначально представляла собой простую колонну, и лишь позже в ее стволе удается рассмотреть человека, или, скорее, бога. Во флорентийских скульптурах, и светских и религиозных, сохранился этот классический, изначальный образ столпа или опоры общественного здания. Среди других итальянцев эпохи Возрождения, особенно ломбардцев, иногда встречались одаренные скульпторы, но когда речь заходила о работе на благо государства, то есть общества, почти всегда обращались к флорентийцам. Знаменитую конную статую кондотьера Гаттамелаты, установленную на площади в Падуе, изваял Донателло; когда венецианцы пожелали воздвигнуть подобную статую (памятник Коллеоне), они послали за Верроккьо. Государственным скульптором Венецианской республики был флорентиец Якопо Сансовино.
Интересно отметить, что идею бесчестия флорентийцы предпочитали выражать посредством живописи. Портреты видных государственных преступников можно видеть на внешних стенах дворца Барджелло, который в то время служил тюрьмой и местом казней; со временем они тускнели и выцветали, как фотографии преступников на стене какого-нибудь почтового отделения в Америке, с той лишь разницей, что во Флоренции эти преступники не «разыскивались», а уже находились в руках властей. Хрупкость и непрочность изображения, соответствующая загубленной репутации, подчеркивалась также и в обряде «Сожжения Суеты», когда флорентийцы, недовольные поведением некоего венецианского купца, заказали его портрет и сожгли на костре.
Галереи скульптур дворца Барджелло и Музея собора производят довольно мрачное и скорбное впечатление, потому что мраморные, бронзовые и каменные изваяния, в которых, подобно живому существу, заключен дух гражданственности, образ Республики, выглядят как отдельно стоящие колонны, опоры и столбы, без которых рухнула бы крыша общества. В республиканской Флоренции религиозное и гражданское тесно переплетались друг с другом, как в древних городах-государствах; святые воспринимались как гражданские герои, чей пример вдохновлял защитников города. Это было характерно для всех средневековых городов-государств, у каждого из которых были собственные покровители (то есть собственная религия). Венецианцы шли в бой с кличем «За Святого Марка!», лукканцы — «За Святого Мартина!», а флорентийцев вдохновлял Иоанн Креститель. Обладая собственной религией, собственными патриотическими святыми, флорентийцы, как и венецианцы, не испытывали большого страха перед папой, поэтому их неоднократно подвергали анафеме и отлучали от церкви; в какой-то момент Флоренция, действуя через тосканских епископов, коренным образом изменила ход событий и отлучила от церкви самого папу. Надпись, сделанная на Палаццо Веккьо во время осады Флоренции в 1529 году — «Jesus Christus, Rex Florentini Popoli, S. P. Decreto electus» («Иисус Христос, народным установлением Царь народа флорентийского»), — утверждала абсолютную независимость не только от мирских правителей, но и от любой духовной власти, за исключением Христа. Это утверждение себя как града Божьего, нового Иерусалима, уже находило воплощение в многочисленных патриотических образах, атлантах, кариатидах, высеченных флорентийскими скульпторами. Флорентийской скульптуре был присущ локальный характер, дух маленького города и провинции, каких, после Аттики и Ионии, никто на Западе и не знал. «Существование маленького государства, — говорил Якоб Буркхардт, — подразумевает, что где-то на земле есть точка, в которой максимально возможное количество населения является гражданами в полнейшем смысле этого слова» [33]. Он имел в виду греческий полис, город-государство, но эти слова вполне можно отнести и к Флорентийской республике; для обоих характерно высочайшее развитие гражданственности и скульптуры.
Флорентийская скульптура, подобно греческой, могла передавать тончайшие оттенки личных чувств, но, как и в Греции, это, по большей части, выражалось в надгробных памятниках или в барельефах, которые представляют собой нечто промежуточное между статуей и рисунком. Изысканные надгробия и многочисленные очаровательные детские головки работы Дезидерио и Мино да Фьезоле преисполнены личных и, в силу этого, трудно уловимых эмоций; горе скорбящей семьи скрыто за тончайшей вуалью, подобной прозрачным мраморным по кровам Мадонны и ангелов, особенно удававшихся этим утонченным мастерам. Сдержанность и умеренность флорентийских барельефов роднит их с греческими надгробными стелами, которые изначально представляли со бой простые плиты с надписью; мысли о преходящем написаны или высечены на камне, и едва заметные изменения глубины свидетельствует о сдержанности и такте, присущих также греческой элегической поэзии.
Эти произведения искусства выглядят «классикой», но это вовсе не означает, что они имитируют классические модели. В те времена, когда творили Мино, Дезидерио, Донателло и Агостино ди Дуччо, в Италии вряд ли знали о греческих статуях, наиболее близких по сппю работам этих мастеров. Сходство с афишами пятого века было обусловлено частично географией, а частично политической структурой: четкими природными границами и традиционно четким, ясным образом мысли. Индивидуальность и определенность сводили формы и идеи к самой их сути — то есть возвращали их к истокам. «Под скульптурой, — говорил Микеланджело, — я понимаю искусство убирать весь лишний материал; под живописью — искусство достигать результата путем добавления». Искусство, убирающее весь лишний материал, оставляющее обнаженной изначальную форму идеи, — именно этим занимался Сократ, добивавшийся правды от своих собеседников, которые уже «знали» эту правду, но не могли осознать ее, пока не спадала скрывавшая ее шелуха. Флорентийцы «знали», что статуя по сути своей это просто столб, колонна, а надгробный памятник — всего лишь плита с надписью. В этом знании и заключена душа классики.