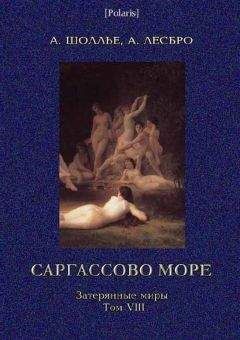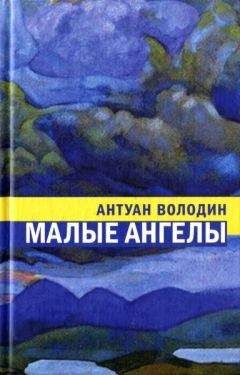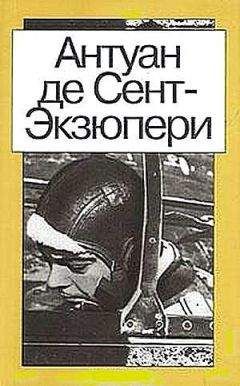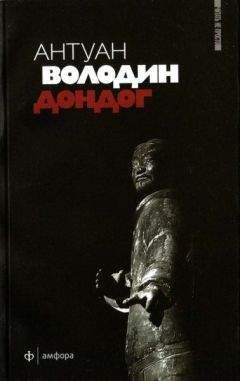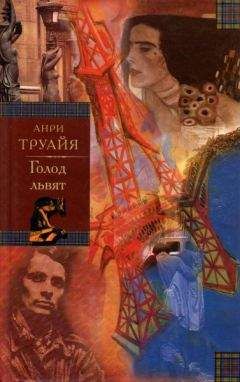Антуан Шоллье - Через Атлантику на гидроплане
Я следил за ней несколько мгновений, пока она исчезла из рамы входа в пещеру. Но неужто вправду мимо трота промелькнула женщина? Не было ли это игрой утомленного воображения? Не фигура ли это с фриза Парфенона, странным образом восставшая с такой живостью в моей памяти? И почему с такой настойчивостью встают передо мной образы древней Эллады? Несомненно, причиной этих галлюцинаций является болезненное расстройство моего мозга; эти сирены... этот грот... а сейчас эта женщина... Если бы убедиться хотя бы в том, что я жив...
Напрасно напрягал я все мускулы, чтобы приподняться, — мне не удалось привстать. Я прикоснулся рукой ко лбу, я ощущал свое тело. Нет, я жив; но где же я? Я попытался крикнуть, но только слабое стенанье сорвалось с моих губ.
И вот, в то время, как я терялся в догадках, совсем поблизости послышался кристальный голос, до меня доносились слова, и опять-таки эти слова были греческие; я уловил их смысл:
Гектор,
Так размышляя, стоял, а к нему Ахиллес приближался,
Грозен, как бог Эниалий, сверкающий шлемом по сече.
Ясень отцов Пелионский на правом плече колебал он
Страшный; вокруг его медь ослепительным светом сияла,
Будто огонь расплывавшийся, будто всходящее солнце.
Гектор увидел и взял его страх. Больше не мог он
Там оставаться, от Скейских ворот побежал, устрашенный...
Это были стихи, и мне казалось, я уже слышал их, но голос продолжал далее.
И, как на играх, умершему в почесть победные кони
Окрест меты беговой с быстротой чудесною скачут;
Славная ждет их награда, младая жена иль треножник, —
Так прекрасно они пред великою Троей кружились,
Быстро носящиеся. Все божества на героев смотрели;
Слово меж оными начал Отец и бессмертных и смертных[1].
Голос затих, удалялся. О, Гомер, я услышал два отрывка из твоей дивной поэмы. Это сказочный бой между великими героями Илиады, Ахиллом и Гектором; повествование об этом пробудило во мне волну воспоминаний! Мне вспомнилось дальнейшее течение поэмы, и я готов был продолжать повествование, рассказать про смерть Гектора, описать горе Приама, Гекубы и Андромахи.
Каким чудом, перескочив через тридцать веков истории, перенесся я к мифическим временам троянских войн? Напрасно искал я объяснения; было несомненно только одно, что я, человек двадцатого столетия, вижу, как в раме, образованной стрельчатым входом, воскресает древняя Греция...
Впереди шествовала медленными ритмичными движениями процессия женщин, подобных той, которую я только-что видел на побережьи; одеяние их состояло только из гирлянд незнакомых мне цветов, свешивающихся гроздьями с их тел между грудями до самых бедер. Подобно молельщицам Эсхила шли они в два ряда, неся в перевитых лентами руках зеленые ветви, колебля их в такт своим шагам.
За ними следовал, опираясь на белую трость, старец, украшенный виноградными лозами, сопровождаемый юношами. Их одежду тоже составлял лишь пояс из древесной листвы. Они были так худощавы, их кожа была так бесцветна, их жесты были так таинственны, что я вопрошал самого себя, не процессия ли это призраков, явившихся на мое погребение.
Нет и нет! Все это не могло быть реальностью! Это призраки моих грез! И вот они приблизились ко мне, наклоняются над моим ложем; я хочу говорить, но мой язык парализован, ни один звук не срывается с моих губ. Их руки протягиваются ко мне, они поднимают меня, и при этом движении меня охватывает такая боль, что я испускаю крик...
Что такое происходит? Мне чудится, что мое ложе водрузили на носилки; покачивание носилок в такт ритмическим шагам носильщиков навевает приятную дремоту; я пробуждаюсь от холода, коснувшись ледяной воды, в которую они меня окунули; три раза погружали меня в воду, я раскрываю глаза и вижу, что я обнажен, по мне струится вода, и я распростерт на большой каменной плите.
Солнце в зените, точно огненный шар, море — цвета сапфира, ярко искрится белый песок, как распыленная золотая скатерть. Ни дуновения в воздухе. Недвижимо все на земле. Под суровой ясностью безоблачного небесного свода застыло море. На противоположной от моря стороне горизонт замкнут полукругом базальтовых скал, между которыми виден ряд темных луночек.
Меня обступили полукругом странные люди; с края от них статуя из белого мрамора. Это ты стоишь на пьедестале в виде колонны, Аполлон Муссагет! Твой образ распознаю я в этом женственном теле юного эстоба; твой профиль вижу я во всем величии неизъяснимого совершенства античной скульптуры. В своей небрежной позе ты как будто еще прислушиваешься к отголоску мелодии, которая только что замерла на струнах твоей лиры!
От двух бронзовых треножников, расположенных по обе стороны камня, на котором я был распростерт, поднимался легкий, голубоватый дым, напоенный таинственными, неизвестными мне ароматами.
Неужели меня приютил один из островов архипелага? Неужели я на Делосе или Тетре, этих священных местах твоего обоготворения? Неужели под этим небом, в этой лазури родился ты, Аполлон, бог вечной красоты?
Да, я вернулся к эпохе олимпийцев; вот приготовляют теофанию[2] во славу Аполлона; вот послышалось пение в созвучии с рокотом волн, — это хор женщин, ритмически колеблющих пальмовые ветви, которые они несут в тонких руках.
«Кифард, сын Зевса, Аполлон, водитель муз, соблаговоли принять жертву, которую мы тебе приносим, и да будет она плодотворной! Тихо вздымается ее грудь, зачарованная твоими гармоничными созвучиями, ты распростер над ее головой одуряющее курение, от которого нежно смежаются его веки. Аполлон сребролукий, направь удар, долженствующий поразить жертву! Пусть благодетельной струей кровь прольется на камень! Пусть затрепещет тело под мечом гиерофанта[3], через смерть да возродится в нас жизнь».
Хор продолжал повторять эти слова, но я их уже более не слушал, — непреодолимый ужас объял все мое существо. К камню, на котором я лежал, приблизился старец; он держал в руках золотой широкий нож.
Жертва — это я!
Я силился закричать, приподняться, но я чувствовал, что тело мое оставалось недвижимо и не подчинялось больше моей воле.
Он наклонился. Снова послышались молитвенные возглашения, заколыхались пальмовые ветви, затрещало благовонное пламя, я почувствовал, как холодное лезвие ножа коснулось моей шеи. При этом прикосновении мои мускулы содрогнулись, я схватил руку гиерофанта и отстранил ее; в приливе энергии мне удалось приподняться. Тысячи слов теснились на моих губах, — проклятья, мольбы; и бессознательно, почти независимо от меня самого, воспоминание о древней Элладе с возмущением излилось в словах, которые Эсхил вложил в уста своего Прометея: