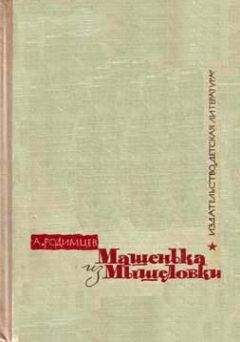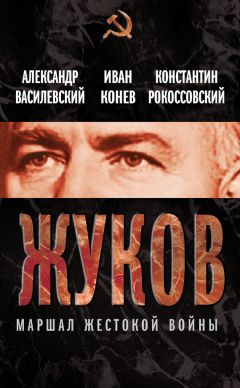Геннадий Сазонов - Открыватели
— Двадцать второе мая сегодня, а здесь солнце чуток к земле притронулось. Трава-то ползет, вон как хлещет, а дерево голое.
— Сибирь! — отвечают ему. — Вон погоди, в Заполярье снег еще сугробится, по оврагам затаился, гад, до самой осени. Там, ребята, иногда в июле снег валит прямо на цветики-цветочки, мороза нет, а снег шпарит — околеть запросто можно…
А Тура ширится, топит берега, изгибается в широкие дуги, почти в кольцо и, прорывая его, оставляет тихую гладкую старицу. На корме парохода задумчиво жуют жвачку два быка и пестрая пугливая коровенка, рядом в клетке сонно похрюкивает свинья, а в ящиках вскрикивают куры, гоготнул гусь, взбрехнула собачонка. Ноев ковчег наш пароход, трудяга.
Выбравшись из тесной клетки и набившись в люксовую каюту, среди протертых ковров и зеркал, тринадцать разинутых ртов и почти три десятка ушей жадно вслушивались в Баскова, а тот, не иссякая, разворачивал одну за другой свои сибириады-шехерезады. И каждая басня была диковиннее другой. Ермака он называл запросто — «Василь Тимофеич», «Аленин», князя Меншикова — Данилычем, Сурикова — Василием, а своего начальника — Яковом Семенычем. Все у него затейливо перепуталось, когда он начинал рыбацкую быль о литом из серебра осетре, что вырвался у него из рук на Чемашевском песке и кончал нельмой, нельмушкой, которую мы никогда не видели. Медведи здесь бродят гурьбой, просто толпами, а среди них не только медведи-скотники, медведи-стервятники, а встречаются и каннибалы. У нас мурашки по спине, но Басков успокаивает, что волки летом в тайге не обретаются, они уходят за оленьими стадами — каслают, так сказать, совместно.
— Что значит кас-ла-ют? — спрашиваем начальника.
— Как пасут овец? — в упор спросил Басков.
— Да, как? Собьют в отару и перегоняют с места на место, от ручья к колодцу… — ответил Витька.
— Во-о, коче-во-е оленеводство! — начальник довольно рассмеялся, словно он сам оленевод, словно сам великий кочевник. — Олень — не овца, ясно. Ему пространства необходимы, тундра. Вот оленеводы и кочуют — каслают со стадами.
Мы чувствуем: Басков хочет одного — чтобы мы впустили в себя Сибирь, поселили ее в себе и сжились с ней, переплетая свои корни с ее корнями.
— Нет, ничего путного не создашь, пока ты приживальщик, пока ты работаешь по найму, по вербовке! — заявил он.
В его мягком, певучем волжском говоре появились какие-то твердые, остроугольные слова из иного мира. Кто-то совсем недавно, так же, как он сейчас, внедрялся в него и требовал впустить в себя Сибирь. Цепная реакция — кто-то завлек сюда Баскова, сейчас Басков завлекает нас, неужели завтра мы начнем завлекать других?
— А ты не вербуй! — огрызались мы, пристально вглядываясь в новый мир. А он весь — хвойно-зеленый, весь голубой от бездонного неба, в зелено-голубом, прозрачно-синем ветре. Мы рвемся на работу, рвемся к делу; только в нем мы можем выразить и утвердить себя, мы честолюбивы и только из здорового честолюбия нарождается мастер, а мы представляем себя только мастерами. Мы молоды и оттого категоричны, все в нас обострено до максимализма. Нам нужен весь мир, а Басков завлекает нас, как шаман своим камланием.
«Усиевич», фыркая, вошел в Тобол, река распахнулась, широко раздвинула берега.
Издалека перед нами открывался белокаменный кремль, и мы приближались к нему медленно; освещаемый солнцем то с одной, то с другой стороны, он словно парил в воздухе несказанно сказочный, удивительно неожиданный, как возникающая музыка. Мы огибали его, а кремль был словно осью, и на ней вращался и наш пароход, и катера, и лодки-неводники, и медлительные баржи — река упруго изгибалась в кольца.
Мы увидели древний Тобольск. Площадь у пристани медово желтела свежестругаными клавишами мостовой, мягко, по-особому клацали и отзванивали подковы. Тобольск обрадовал нас десятком церквей и рубленым теремком театра, изукрашенного причудливым деревянным кружевом, фронтонами старинных зданий и кремлем на иртышском крутоярье. Он обрадовал нас встречей с тишиной, какой-то грустной мелодией зарастающих улочек. Да, да, было чуточку грустно, что над гудящим, плещущим Иртышом тихо уходит в прошлое древний город. Мы, волжские парни, ничего не знаем о нем, о прошлом, лишь то, что «на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Какие клады искал здесь Ермак, какие клады кроме воли и простора жаждала не закандаленная русская душа? Что она оставила здесь, что сотворила? Не здесь ли, на крутоярье Иртыша, Русь приобрела ту мощь и силу, что насквозь пробила азиатской материк и вошла в громовые раскаты Тихого океана? От дикого брега Иртыша на дикий брег океана…
Мы — часов пять, пока загружается наш «Усиевич», — бродим по дремотному кремлю, вдоль стен, под которыми вразброс, как на приступ, непролазно поднимаются лопухи и репейники. В них настоялась прошлогодняя сонь, пыльной ветошью свисает паутина. Трогаю ладонями эти неприступные литые стены, в которых спрессовались столетия России, и не пойму никак, кому отсюда грозил Петр, зачем заставил разбитых под Полтавой шведов возводить «Шведскую палату»? Может быть, нащупывал отсюда путь в Китай и в Индию? — «так смотрите же, иноземные купцы, какую мощь мы обрели».
Заглянули мы в церквушку, где негромко и задумчиво, в колеблющемся свете восковых свечей протекала всенощная.
То, что это всенощная, мы узнали от крепкотелой, налитой здоровьем темноглазой тобольчанки. Она размашисто осеняла себя крестными знаками, и столько в ней было плотского, женского, жизнелюбивого, что Басков удивленно спросил:
— Ты… ты в бога, что ли, веришь?
— Я?! — удивилась она. Открылись ровные белые зубы, и вздернулись в усмешке озорные губы. — Ребеночка мне надо… Ой-ой, как надо! На-до-о! — протянула, чуть гася смех, женщина и двинулась к церкви.
— Да разве у бога ребеночка просят? — выдохнул Басков. — Да в этой конторе сплошные миражи. Знай…
— Знаю! — озорно повела плечом смуглолицая сибирячка. — Ты же не полюбишь, забоисси… А вот тебя бы, — она толкнула Витьку плечом, — тебя бы, голубок, заласкала…
— По-го-ди! — протянул Басков.
— Некогда! — отрезала женщина.
— А мы — атеисты! — громко заявил Басков. — Ну, славяне, вперед! — И рванулся из кремля по булыжной мостовой.
На Иртыше нас слегка покачало, а на Оби разыгрался шторм. Нас вдруг обо что-то ударило, садануло наотмашь бортом. Но все крепко спали, и никого из пассажиров не обеспокоил крик и гвалт команды. Только с рассветом мы увидели себя в лесу. Прямо в лесу на полянке, среди огромных ветел и елей, и теснились они вокруг парохода, царапали ветками о палубу и дотрагивались мягкими лапами до иллюминаторов. Шторм загнал нас в тайгу. Весной Обь раскидывается в своей долине на двадцать — тридцать километров, а летом то, что было рекой, вновь станет лугами, полями, протоками, устьями рек и речушек.