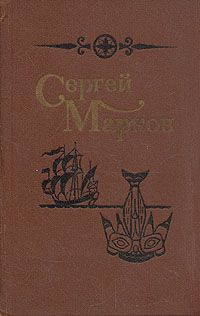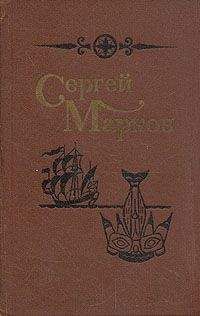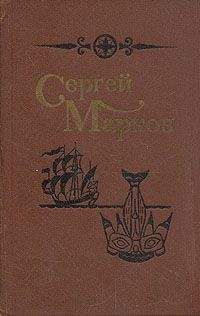Сергей Марков - Юконский ворон
Загоскин прислушался и различил вой собак и звуки победной охотничьей песни. Он быстро сообразил: люди племени Ворона скоро будут здесь. Они тащат на жердях добычу, мажут копья звериной кровью. Потом здесь начнется дележ… Он успеет уйти! Затеряться в зарослях мерзлых низкорослых ив у берега Квихпака.
— Ты еще сможешь вспомнить обо мне, спеши! Загоскин спустился в заросли и лег в снег. Ветви царапали ему лоб, он отводил их и жадно вглядывался в простор.
…Вот охотники вошли в село, размахивая копьями и рогатинами. Девушка в алом двинулась навстречу мужчинам. Высокий индеец склонился над убитым медведем, к индейцу подошли другие; блеснули ножи, и через несколько мгновений люди, издавая протяжный крик, подняли на копьях медвежью шкуру. И вдруг все расступились перед девушкой в алом. Она облеклась в еще дымящуюся шкуру зверя и начала медленную пляску. На жестоком морозе была видна кайма розового пара, окружающая танцовщицу. Стуча копьями о щиты и рукоятками кинжалов о панцири, индейцы медленно кружились и пели. Загоскин видел праздник охоты, душой которого была она — Ке-ли-лын.
Он поднялся со снега и побрел сквозь кусты вдоль берега Квихпака, выбирая места, где снег был наиболее плотным. Загоскин покидал чужой, случайный и теплый кров. Где теперь Кузьма? Скоро сядет солнце, мир станет серебряным, а ночью грянет звенящий мороз. Еще мгновение, и Загоскин готов был заплакать, но он сжал обмороженные пальцы так, будто душил кого-то. И в это время широкий луч солнца упал на вершины кустов; они застыли, как бы вылитые из тяжелой бронзы. Потом луч опустился на снег, и золотая дорога — мерцающая и подвижная — заструилась по сугробам. Загоскин посмотрел на компас и вскрикнул от радости — дорога совпала с его путем.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Кусты скоро перешли в мелколесье, а в глубине страны Загоскина встретили густые, черные леса. Он шел то ледяным руслом, то берегом Квихпака, часто отклоняясь от пути, чтобы осмотреть лес. Орлиное гнездо на лиственнице, обледеневшая бобровая плотина на лесном ручье, олений след — манили его. Раз, когда Загоскин крался к лисьей норе, он почувствовал страшную боль в правой ноге. Оказалось, что он наступил на иглу дикобраза, сдохшего, очевидно, осенью и погребенного под тонким слоем листвы и неглубоким снегом. Он стал вытаскивать иглу — она сидела между пальцами ступни, — и ему показалось, что он даже услышал легкий скрип: так плотно держалась игла в ране. Лоскутом рубахи он перевязал ногу, срезал палку и пошел, опираясь на нее. В тот же день кровь в сапоге замерзла, и подошва как бы увеличилась вдвое, а нога удлинилась, и правое плечо стало выше левого. Но он шел…
Теперь он ставил силок на глухарей, и почти каждый раз в самодельных тенетах грузно ворочался краснобровый красавец. Человек хватал птицу за шею и свертывал ей голову набок. Руки его — ладони и пальцы — были исклеваны птицами. Хорошо, что Егорыч в Михайловском редуте подарил ему запасное огниво и кремень, а трут Загоскин добывал в лесу. У него был огонь. Путник жарил глухарей на костре. При свете костра он не раз смотрел, не почернела ли ступня. Узкую и глубокую ранку скоро затянуло. Но он все-таки хромал.
Однажды, проходя под большим деревом, он услышал, как зашуршал на ветвях снег. И тотчас что-то шумное и живое свалилось с дерева, увлекая за собой снег и сухие хвойные иглы. Он едва успел отскочить и взвести курок пистолета. Багровый свет вспыхнул в его глазах, он не видел ни дымка, ни блеска выстрела. Он лишь услышал протяжный вой. Раненая рысь каталась по снегу. Загоскин переступил с ноги на ногу, прицелился и вогнал в нее еще одну пулю. Он хотел было уже двинуться дальше, как вдруг отчетливо вспомнил в ровном солнечном сиянии алую одежду индианки, бирюзовый панцирь на ее груди, теплую и живую бронзу щек. Загоскин поспешно опустился на колени перед убитой рысью и стал снимать с нее шкуру. Он просовывал крепко сжатый кулак под кожу, приподымал ее вверх и снимал, временами вытирая окровавленные руки о край лосиного плаща.
Сняв шкуру, Загоскин накинул ее на плечи и пошел вверх по Квихпаку. Он начал производить топографическую съемку местности. Отрезав от плаща кусок лосины, искромсав его на узкие полосы, он связал их между собою. Получился длинный кожаный шнур. Осталось только хорошо промазать его жиром глухаря. Загоскин привязал к концу шнура термометр. Он подходил к дымящейся речной полынье, становился на край зеленого льда и бросал термометр в тяжелую зимнюю воду. А что, если промахнешься и термометр разлетится в куски на льду? И Загоскин заключил свой прибор в рамку из лиственничных веток. Когда ему нужно было измерить глубинную температуру, он привязывал к термометру большую свинцовую пулю.
Долгожданную «одиночку» Загоскин увидел с вершины прибрежного холма. Но почему над трубой зимовья не видно дыма, не слышно лая собак? Почему настежь распахнуты ворота лиственничной стены, а огромный деревянный засов лежит у внешней стороны палисада? Тропа к зимовью занесена снегом. Держа пистолет перед грудью, он заковылял к воротам.
— Эй, кто там? — крикнул он по-русски.
«Одиночка» молчала. Загоскин повторил свой вопрос по-индейски и, не дождавшись ответа, рванул на себя обитую шкурами дверь. Она примерзла; значит, в избе давно не топили. Порог был покрыт серым льдом. Загоскин с трудом проник в дом.
Креол-приказчик лежал неподалеку от окна, голова его была размозжена; сгустки мерзлой крови разбросаны на мехах, устилавших пол. На сосновом столе белела раскрытая книга приема мехов; склонившись над ней, Загоскин прочел: «Март 1842 года. Лисиц красных — 3, волков — 5, выдр речных — 12, соболь — 1, медведей — 4, бобров — 2…» Где же все это? Он прошел в пушную кладовую: там валялась лишь окровавленная заячья шкурка — очевидно, убийца вытирал ею руки — и чернели пустые пороховые бочки.
Потом он подошел к креолу. Сдвинуть тело с места не удалось, оно накрепко примерзло к полу. Загоскин разжег очаг и стал дожидаться, когда жилье наполнится теплом. Креола он прикрыл шкурой рыси. Согревшись, Загоскин вышел и, внимательно оглядев все вокруг дома, нашел приметный холмик. Расчистив снег, обнаружил сундук со съестными припасами — хранилище неприкосновенных запасов пищи, какие обычно устраивают в глухих зимовьях. Он богат! Сегодня он ест рыбу и солонину, пьет крепкий кяхтинский чай с сухарями. Но надо подумать, что делать с телом креола? Загоскин решил на время положить его в кладовой на пустые пороховые бочки, сдвинутые в ряд.
Ночью спалось плохо. Загоскин вдруг вспомнил о том, что в мешке индейца Кузьмы остались все бумаги, записки и наброски — плод исследований на острове Михаила. Как теперь восстановить все это? Мозг работал с удивительной быстротой: в сознании вспыхивали цифры. Они казались красными. Температура вечной мерзлоты в шурфе «А»… Скорость течения Квихпака у морского бара… 24! Это число найденных им костей ископаемых оленя и овцебыка… Он вскочил с мехового ложа, подсел к огню и, раскрыв тетрадь, стал записывать то, что вспоминал… Жаркая смола на поленьях сосны — «чаги» — до утра кипела в очаге. Загоскин смотрел на белые страницы — по ним пробегали то дым, то отблески огня, то тень от его двигающейся руки.