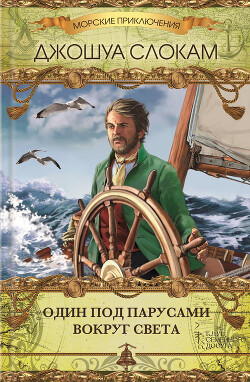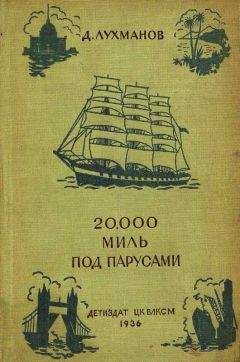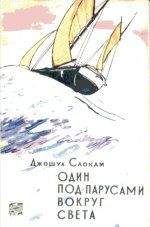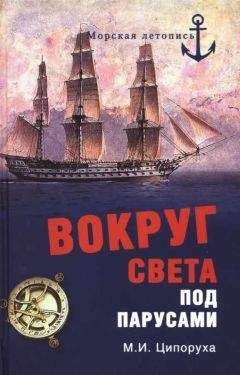Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны - Лухманов Дмитрий Афанасьевич
Воскресный день протекал тихо. Наступил вечер.
В девять часов залилась дудка Зигмунда и раздался обычный окрик в жилую палубу:
— Ученики и команда, во фронт, на шканцы, на правую!
Не уехавший на берег командный состав собрался, как всегда в этот час, на возвышенном юте, у передних поручней.
Михаил Васильевич скомандовал своим приятным баском:
— Смирно! Фуражки снять, молитву петь!
Все подтянулись и обнажили головы, но на шканцах царило зловещее молчание. В ночной темноте видно было только, что ученики чуть заметно подталкивали друг друга локтями.
Мы переглянулись с Васильевым.
— Первый с правого фланга, запевай молитву! — скомандовал он.
Молчание.
— Второй с правого фланга, запевай молитву!
Молчание.
Мы опять переглянулись, и Васильев скомандовал:
— Третий с правого фланга, читай молитву!
Молчание.
Тогда Михаил Васильевич начал сам:
— Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да… — и примолк, забыв слова привычной молитвы.
Я подхватил:
— Да приидет царствие твое, да будет воля твоя… — И вдруг у меня в голове промелькнуло: «Кажется, сперва „воля“, потом „царствие“ — или правильно?» — и в этот момент я тоже почувствовал, что забыл и непременно собьюсь. Я взглянул беспомощно на своего второго помощника П. Г. Ставанского, и тот блестяще, без запинки, докончил.
Михаил Васильевич скомандовал: «Накройсь!»; но дальнейшую команду: «Разойтись, койки брать!» — я задержал.
— Спуститесь на шканцы и узнайте, в чем дело, — сказал я ему вполголоса.
Васильев спустился по трапу и подошел к фронту. Я напряженно ждал на юте результатов его разговоров.
Михаил Васильевич скомандовал:
— Вольно! — и добавил: — Собирайтесь, господа, в кружок и давайте потолкуем, в чем дело с молитвой.
Его моментально обступили. Начался оживленный разговор. Говорило сразу больше десятка человек, и, стоя на юте, трудно было что-либо понять. Наконец раздался громкий голос Михаила Васильевича:
— Разойтись! Койки брать!
Ученики и команда бросились к коечным сеткам, «раздатчики» начали выбрасывать свернутые в аккуратные коконы парусиновые койки, люди подхватывали их на лету.
Михаил Васильевич поднялся на ют сияющий:
— Чепуха, Дмитрий Афанасьевич, вся история выеденного яйца не стоит: дело в том, что обычные запевалы оказались в отпущенных вахтах, на берегу, и никто не решался начать, боясь взять неверный тон. Ребята, видя, что выходит нечто вроде демонстрации, сами до того перепугались, что когда я скомандовал третьему с фланга не петь, а читать молитву, то у него от страха «прилип язык к гортани» и он не смог начать.
Стоянка на Геленджикском рейде была использована нами главным образом для шлюпочных учений.
Утро посвящалось обучению гребле, завозу на шлюпках якорей, приставанию к трапам, расстановке со шлюпок промерных вех.
Старшие ученики делали промеры глубин и занимались инструментальной съемкой отдельных участков бухты.
После обеда и отдыха, когда едва дувший утром морской бриз начинал свежеть, производились парусные учения и гонки шлюпок. Особенное оживление вносила автоматическая «капитанская благодарность». Так называлась длинная бамбуковая удочка с колокольчиком на тонком конце. Толстым концом она привязывалась к кормовым поручням, выступая наружу метра на три. Надо было, идя под парусами на шлюпке, «резать корму» корабля так, чтобы задеть вантиной за гибкий кончик удочки. Раздававшийся звонок означал благодарность капитана за хороший глазомер и умелое управление. Над промахнувшимися рулевыми трунили, но самым большим позором считалось навалиться на удочку слишком близко и сломать или своротить ее. Для того чтобы при таких случаях не терять колокольчика, он был соединен с бортом отдельным тонким шнурочком. Эта остроумная игра была изобретена в шестидесятых годах адмиралом Бутаковым и отлично развивала глазомер рулевых.
Простояв на Геленджикском рейде дней десять и выполнив все задания программы практических занятий, мы, следуя расписанию, снялись в Феодосию.
Съемка с якоря назначена была в шесть часов утра, чтобы воспользоваться задувавшим обычно перед рассветом береговым бризом.
Паровой катер и шлюпки, кроме дежурной «десятки» [68], были подняты еще с вечера, выстрелы завалены, забортные трапы подняты, и весь фрегат был приведен в походный порядок. Оставалось только поднять на шлюпбалки «десятку», поставить паруса и поднять якорь.
Береговой бриз, вынесший нас в открытое море, скоро перешел в ровный попутный нам четырехбалльный норд-ост, и наша «Мария Николаевна» полетела по одиннадцати узлов, легко обгоняя попутные грузовые пароходы. При этой скорости через десять часов мы были бы уже на Феодосийском рейде, но это совершенно не входило в наши планы. Наша обязанность была не ставить рекорды скорости, а учить молодых моряков управлению судном. На переход Геленджик — Феодосия нам давалось по расписанию четверо суток, и этот срок надо было выдержать; поэтому, как ни грустно и ни досадно было, пришлось умерить пыл лихого клипера и, отойдя от берега миль пятьдесят, повернуть нашу резвую красавицу в обратную сторону, привести к ветру и лечь в крутой бейдевинд. Однако и в бейдевинд, лежа всего пять с половиной румбов от ветра, не превышавшего силой четырех баллов, «Мария Николаевна» шла по шесть-семь узлов.
Под вечер, не дойдя миль восемь до мыса Мысхако, мы пошли попутняком, но ветер начал стихать, и наш ход не превышал пяти-шести миль в час. Это было терпимо, и до рассвета можно было не волноваться, но с полуночи мы попали в другую крайность: ветер стих совершенно, паруса безжизненно повисли, чуть похлопывая о мачты неподвижного и лишь слегка покачивавшегося на мертвой зыби фрегата.
— И ветер и «Мария Николаевна» на нас обиделись, — сказал мне Михаил Васильевич, — теперь будем штилевать несколько дней подряд, вот увидите.
— Ну что ж поделаешь, будем решать навигационные задачи, заниматься астрономией, а для развлечения устроим охоту на дельфинов. Смотрите только внимательно, Михаил Васильевич: если течение поднесет нас опять ко входу в Геленджик, чтобы некоторые ребята не попрыгали за борт и не поплыли на берег к своим пассиям, — ответил я.
Однако пророчество Михаила Васильевича не сбылось. Норд-остовый ветер действительно прекратился, но небо было безоблачно, солнце честно накаляло прибрежные горы и нагревало гладь моря, и легкие бризы ночью с суши на море, а днем на сушу дули исправно и безотказно.
Держась ближе к берегам и пользуясь бризами, мы рано утром на пятый день плавания, точно по расписанию, отдали якорь на Феодосийском рейде.
Через четверть часа к нам подошел портовый буксир с помощником начальника порта, карантинными и таможенными властями.
Помощник начальника порта заявил мне, что сегодня с поезда ожидается какое-то высокое начальство из Петербурга и что он имеет распоряжение ввести нас в гавань и ошвартовать у пристани.
Для того чтобы иметь возможность спускать и поднимать шлюпки с обоих бортов, мы ошвартовались по-военному кормой, положив перед собой два якоря.
Не успели мы как следует наладить и укрепить сходни, представлявшие довольно сложное сооружение из толстых досок, как вахтенный сигнальщик доложил:
— В городе на набережной пожар!
Пожар был квартала за два от нас, под ветром, и нам не угрожал. В бинокль можно было разглядеть, что горит небольшой деревянный домик — не то лавочка, не то маленькая кустарная мастерская. Тем не менее, следуя традициям военного флота, мы, не теряя ни минуты, послали на берег одну вахту под командой третьего помощника капитана, с судовым пожарным инструментом, переносным ручным брандспойтом, шлангами и шлюпочными отпорными крюками вместо пожарных багров.
Домчавшись карьером к месту пожара, ребята сразу сообразили, что охваченный уже со всех сторон пламенем домишко отстоять нельзя, и молниеносно растащили его по бревнышку или, вернее, по дощечке, так как зданьице было весьма проблематичной постройки и представляло собой маленькую греческую пекарню. Залив водой разобранные части строения уже на земле, ребята сложили все дощечки в аккуратный штабель. Приехавшей минут через двадцать городской пожарной команде было нечего делать, и брандмейстеру оставалось только поблагодарить наших молодцов.