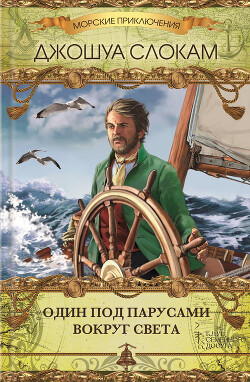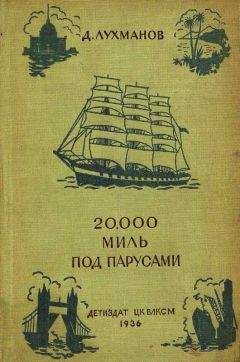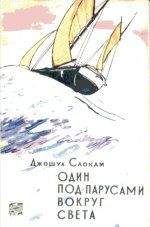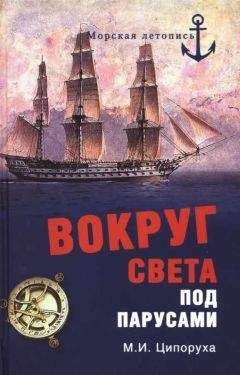Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны - Лухманов Дмитрий Афанасьевич
К парадному подъезду брусницынского дома я подъехал в четверть второго. Подъезд был освещен. Швейцар открыл дверь и посмотрел на меня с изумлением.
— Вам Александра Николаевича?
— Да, он вызвал меня срочной телеграммой из Гельсингфорса. Я капитан «Астарты».
— Пожалуйте в приемную. Барина покудова нет, ждем с минуты на минуту.
Я просидел в приемной до трех часов утра, когда до меня снизу из прихожей донесся шум хлопающих дверей, суетливый топот ног и матерная ругань. Через несколько минут в приемную ввалился поддерживаемый под локоть лакеем совершенно пьяный Александр Брусницын. Он оттолкнул лакея, посмотрел на меня налитыми кровью глазами и прохрипел: «Завтра!»
Лакей снова подхватил его под руку и побуксировал дальше. Внизу продолжался шум. Когда я спустился в прихожую, то увидел, как совершенно бесчувственного Николая Брусницына раздевали и отпаивали сельтерской водой.
Около четырех часов утра я был у себя дома.
На другой, или, вернее, в тот же день, часов в одиннадцать утра, я явился в бухгалтерию конторы Брусницыных и попросил кудрявого молодца доложить обо мне Александру Николаевичу.
Меня впустили тотчас же. Брусницын сидел за своим столом чистенький, выбритый, слегка пахнущий лавандой.
— Честь имею явиться, Александр Николаевич. Вы вызвали меня срочной телеграммой…
Он скользнул по мне глазами.
— Да, я вызвал вас, чтобы сказать, что вы мне больше не нужны. Вы свободны.
Я почувствовал, что меняюсь в лице, но сдержался.
— Почему же? — спросил я спокойным голосом. — Я сделал какой-нибудь непоправимый проступок, ошибку, нанес вам ущерб?
— Ничего вы не сделали, а просто вы мне не нужны. Яхта моя, и никто не может заставить меня держать капитана, который мне не подходит.
— Но почему же я не подхожу?
— Так, не подходите, да и только. Да что тут долго разговаривать, я русским языком вам сказал: вы — мне — ненужны!
Я начинал кипятиться:
— Но позвольте, Александр Николаевич, все товарищи-моряки знают, что я поступил к вам капитаном, а теперь вы меня увольняете без объяснения причин. Вы портите мою репутацию. Благоволите объяснить мотивы, по которым вы меня увольняете!
Брусницын вскочил. Глаза его начали наливаться кровью.
— Вашу репутацию? Подумаешь, какое важное кушанье! А если бы вы мою репутацию испортили, тогда что? Сказал, не надо мне вас, и убирайтесь к черту! — заорал он.
Я тоже возвысил голос:
— Нет, не уберусь! Потрудитесь дать мне объяснения и приказать бухгалтерии сделать со мной расчет и уплатить неустойку.
Коммерсант-джентльмен вышел окончательно из себя:
— Вон из моего кабинета сию минуту, а то вызову с завода полицейский наряд и в шею выгоню, да еще в кутузке у меня насидишься!
Силы были неравные, пришлось смириться. Я повернулся к выходу.
— Расчет, неустойку! — кричал он мне вдогонку. — Скажите на милость, какой контрагент у Брусницыных нашелся! А контракт у тебя есть, шаромыга? Получил двести рублей авансу и подавись ими, благодари, что отчета не спрашивают!
Я вернулся домой прямо не в себе. Я весь дрожал мелкой дрожью от оскорблений и душившей меня злобы.
Мать и жена меня всячески успокаивали.
— Попробуем еще одно средство — прессу, — сказала мать.
Она написала фельетон «Живы еще Тит Титычи», но издатель «Петербургской газеты» Сергей Николаевич Худяков прямо сказал ей:
— Не пойдет, Надежда Александровна, при всем моем уважении к вам, не пойдет. Брусницыны — мои старинные друзья…
На другой или на третий день после истории с Брусницыным шел я по Невскому, этой прославленной улице самых неожиданных встреч, и встретил старшего лейтенанта с крейсера «Память Азова» Федора Федоровича Ломена, с которым познакомился в девяносто пятом году в Нагасаки.
Разговорились. Вспомнили несколько анекдотов из жизни Тихоокеанской эскадры того времени. Федор Федорович рассказал мне, что приехал в Питер ввиду назначения на один из строящихся кораблей, а я ему — что приехал в отпуск, но не хочу возвращаться на Дальний Восток и ищу места.
— А вы не знакомы с моим братом? — спросил Ломен.
— Нет, Федор Федорович, ваш брат — слишком высокая особа, я вращаюсь в более скромных кругах.
— Ну какая там он высокая особа! Был, правда, флаг-капитаном у «полковника» [66], но попал в немилость. Его заменил пьяница высокой марки — Нилов. Так вот, у брата есть закадычный друг — Конкевич. Брат говорит, что Конкевич теперь большая шишка у Витте [67]: заведует какими-то морскими делами в министерстве финансов. Побывайте у этого Конкевича и, если у него найдется что-либо подходящее для вас, скажите мне, позвоните только по телефону (он назвал номер), а я уж натравлю на него брата.
— Это какой Конкевич, — спросил я, — не писатель Беломор?
— Во-во, он самый.
— Я с ним встречался когда-то в редакции «Русского судоходства», а вот теперь бываю там довольно часто и ни разу не встретил.
— Ну, ему теперь не до того… Так обязательно зайдите к нему. Его «лавочка» помещается где-то на Малой Морской…
На углу Троицкой и Невского мы расстались. Я вспомнил Конкевича. Это был крупного телосложения человек с копной черных, слегка поседевших на висках волос, большим лбом, очень яркими умными глазами и странным басистым и в то же время пришептывающим голосом. Мне рассказывали его историю. Конкевич был выдающимся и храбрым флотским офицером, отличился на Дунае в русско-турецкую войну 1877–1878 годов и после Сан-Стефанского договора был оставлен в Болгарии для налаживания каких-то морских дел. Там его скоро сделали, с разрешения русского правительства, морским министром, а затем, при перемене принцем Кобургским русской ориентации на австрийскую, он вылетел оттуда вместе с другими русскими ставленниками. Вернувшись в Петербург, он переругался с управляющим морским министерством и вышел в отставку. Несколько лет командовал торговыми пароходами на Белом море (отсюда псевдоним «Беломор») и писал. Его книги «Крейсер „Русская Надежда“» и «Роковая война 18… года», направленные против Англии, в свое время имели большой успех. Так вот этот самый Конкевич был теперь какой-то большой шишкой при Витте.
На другой день я нашел его «лавочку»; она называлась «Отдел торгового мореплавания министерства финансов», но хозяина не оказалось на месте…
Я был еще три раза у Конкевича и также неудачно: один раз, по словам курьера, он был на докладе у министра, а два раза был очень занят и никого не принимал. Мне это надоело. Александр Егорович Конкевич в моих глазах был прежде всего брат писатель, а не «ваше превосходительство». И вот, когда я вновь услышал от курьера: «Заняты-с, никого не приказали принимать-с», я передал ему заранее приготовленную визитную карточку, где ниже выгравированного «Дмитрий Афанасьевич Лухманов, штурман дальнего плавания» я приписал пером: «Сотрудник журнала „Русское судоходство“. Приходит в пятый раз».
— Будьте добры, — сказал я, — передайте эту карточку Александру Егоровичу.
Курьер посмотрел на меня, потом на карточку, пожал плечами и пошел докладывать.
Он вернулся в приемную со словами:
— Просят-с.
— Что, шибко сердит? — спросил я.
— Как всегда-с.
Я отворил тяжелую дубовую дверь и вошел в громадный, отделанный дубом кабинет.
Из-за массивного письменного стола в глубине кабинета приподнялась большая медведеобразная фигура с гривой совершенно седых волос, с седой всклокоченной бородой и, опираясь на стол кулаками, прорычала:
— Ну-с, сто вам, собственно говоря, нужно?
Я был готов к такому или почти такому приему и, не задумываясь, отрапортовал:
— Я моряк торгового флота, шесть лет прокомандовал судами на Дальнем Востоке. Зашел я к вам, Александр Егорович, с просьбой: не сможете ли вы предоставить мне какую-нибудь службу по специальности?