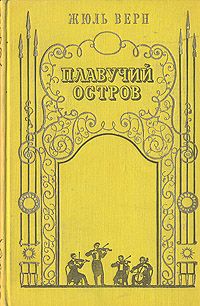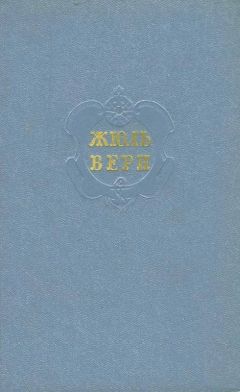Жюль Верн - Плавучий остров. Вверх дном
— Важно в нем находиться, мой добрый старый скрипичный ключ, — говорит Пэншина, — а мы в нем как раз и находимся.
Из двух больших окон в комнату льются потоки дневного света, и на целую милю вдаль виднеется улица, окаймленная двумя рядами деревьев.
Четверо друзей совершают свой туалет в комфортабельной ванной комнате, оборудованной всеми современными усовершенствованиями: тут и снабженные градусниками краны с горячей и холодной водой, механически опоражнивающиеся умывальные тазы, электрические нагреватели для ванны, для щипцов, пульверизаторы с эссенциями и духами, электрические вентиляторы, механические щетки — к одним просто подставляют голову, к другим достаточно приложить одежду или сапоги, чтобы отлично вычистить их и навести глянец. В комнате имеются, конечно, часы; повсюду вспыхивают электрические лампочки, стоит только протянуть руку — и многочисленные кнопки звонков и телефон дают возможность немедленно связаться с любой из служб отеля.
Впрочем, Себастьен Цорн и его товарищи могут сноситься не только с отелем, но и с различными кварталами города и, может быть, — как полагает Пэншина, — даже с любым городом Соединенных Штатов Америки.
— Или даже обоих полушарий, — добавляет Ивернес.
А пока они поджидают подходящего случая для подобного опыта, в семь сорок семь им передают телефонограмму на английском языке:
«Калистус Мэнбар желает доброго утра уважаемым членам Концертного квартета и просит их, как только они будут готовы, спуститься в столовую «Эксцельсиор-Отеля», где им будет подан первый завтрак».
— «Эксцельсиор-Отель»! — произносит Ивернес. — У этого караван-сарая роскошное название.
— Калистус Мэнбар — это наш любезный американец, — замечает Пэншина, — и имя у него тоже весьма звучное.
— Друзья мои, — восклицает виолончелист, чей желудок так же был склонен командовать, как и сам его обладатель, — раз уж завтрак подан, пойдем завтракать, а затем…
— А затем… прогуляемся по городу, — добавляет Фрасколен. — Но что это за город?
Так как наши парижане уже совсем, или почти совсем, готовы, Пэншина отвечает по телефону, что через пять минут они явятся по приглашению мистера Калистуса Мэнбара.
И вот, покончив с туалетом, они направляются к лифту, который спускает их в просторный холл. В глубине широко раскрыта дверь столовой — обширного зала, сверкающего позолотой.
— Я весь в вашем распоряжении, господа!
Эту фразу из шести слов произносит вчерашний знакомец. Он из тех людей, которых как будто знаешь уже давно, как говорится — «целую вечность».
Калистусу Мэнбару лет пятьдесят — шестьдесят, но он выглядит сорокапятилетним. Рост у него выше среднего, живот слегка выдается; руки и ноги крепкие и сильные; походка твердая; он полон сил и пышет здоровьем, если позволено так выразиться.
Себастьен Цорн и его друзья неоднократно встречали людей этого типа, а в Соединенных Штатах — весьма часто. Голова у Калистуса Мэнбара огромная, круглая, покрытая еще не поседевшими светлыми и вьющимися волосами, которые разлетаются в разные стороны, как листва, колеблемая ветром; лицо румяное, желтоватое; довольно длинная борода разделена на две заостряющиеся на концах пряди; верхняя губа выбрита, уголки рта слегка приподняты, губы сложены в улыбку, чаще всего — насмешливую; зубы сверкают белизною слоновой кости; толстый нос с раздувающимися ноздрями плотно врос в переносье, над которым — две вертикальные складки; на носу пенсне на серебряной цепочке, тонкой и гибкой, как шелковая нить. За стеклами пенсне сверкают живые глаза с зеленоватой радужной оболочкой и горящими зрачками. Эту голову соединяет с плечами бычья шея. Туловище прочно укреплено на мясистых бедрах, ноги прямые, а ступни несколько вывернуты.
На Калистусе Мэнбаре надет просторный диагоналевый пиджак табачного цвета. Из нагрудного кармана высовывается кончик нарядного носового платка. Белый, низко вырезанный жилет на трех золотых пуговицах. От одного кармана к другому протянулась массивная цепь; на одном ее конце хронометр, а на другом — шагомер, не говоря уже о многочисленных брелоках, позвякивающих между ними. Эта выставка ювелирных изделий дополняется целой серией перстней, украшающих толстые красные пальцы. Рубашка безукоризненной белизны, туго до блеска накрахмаленная, с тремя сверкающими бриллиантовыми запонками, с большим отложным воротником, почти закрывающим галстук из узкой золотисто-коричневой тесьмы. Просторные полосатые брюки, постепенно суживающиеся книзу, и шнурованные ботинки с алюминиевыми пряжками.
Что касается физиономии янки, то, хотя черты лица его очень выразительны, за этой выразительностью ничего не скрывается, — такие лица-бывают у людей, которые ни в чем не сомневаются и которые, как говорится, «видали виды». Человек он наверняка весьма оборотистый, а также энергичный, о чем свидетельствуют крепость его мускулов, резкие складки надбровья и сжатые челюсти. Нередко он раскатисто хохочет, но как-то в нос, так что его смех больше похож на насмешливое ржание.
Таков Калистус Мэнбар. Завидев членов квартета, он приподымает свою широкополую шляпу, к которой очень подошло бы страусовое перо по моде времен Людовика XIII. Он пожимает четырем артистам руки и подводит их к столу, где бурлит чайник и дымится традиционное жаркое. Он все время говорит, не давая собеседникам перебить его ни одним вопросом, может быть именно для того, чтобы уклониться от ответов, — расписывает великолепие города, необычайные обстоятельства, при которых тот возник, и по окончании завтрака заключает свой пространный монолог такими словами:
— Подымайтесь, господа, и следуйте за мной. Я только хочу вас предупредить…
— Насчет чего? — спрашивает Фрасколен.
— У нас строжайше запрещено плевать на улицах.
— Да у нас и нет такой привычки… — протестует Ивернес.
— Отлично!.. Вам не придется платить штрафов.
— Не плевать… в Америке!.. — бормочет Пэншина удивленно и вместе с тем недоверчиво.
Трудно было бы заполучить в провожатые более замечательного чичероне, чем Калистус Мэнбар. Город он знает досконально. Он осведомлен, кому принадлежит каждый особняк, знает, кто живет в каждом доме, и нет ни одного прохожего, который не приветствовал бы его с дружеской фамильярностью.
Город правильно распланирован. Широкие проспекты и улицы с балконами над тротуарами пересекаются под прямым углом, образуя нечто вроде шахматной доски. В этой геометрической планировке проявляется единство архитектурного замысла, которое, однако, не исключает разнообразия. Стиль фасадов и внутреннее убранство домов не подчинены никаким правилам, кроме фантазии строителей. За исключением некоторых торговых кварталов улицы застроены домами, скорее напоминающими дворцы. Тут парадные дворы и изящные флигели, фасады — торжественные и стильные; внутри — несомненно роскошное убранство; позади домов зеленеют такие большие сады, что их вполне можно назвать парками. Все же надо заметить, что деревья, видимо недавно посаженные, еще не разрослись. То же самое можно сказать и о скверах. Разбитые на скрещениях основных магистралей города, они засеяны травой, такой яркой и свежей, какая бывает в английских садах, и засажены всевозможными растениями умеренного и жаркого поясов, еще не получившими из почвы достаточно соков для полного развития. И эта особенность являет поразительный контраст с природой данной части американского Запада, изобилующего гигантскими лесами, находящимися поблизости от больших калифорнийских городов.