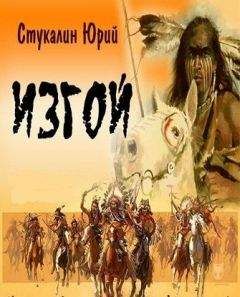Даниэль Дефо - Робинзон Крузо. История полковника Джека
Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что, если господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше, — словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.
Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (тем более что еще не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.
Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое еще вчера так бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное зрелище. И тут-то, словно для того, чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался, — признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору, — мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуле той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл; в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Однако меня ждало еще одно испытание: как всегда в подобных случаях, провидение пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою; в самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать, что опасность была поистине велика и спаслись мы только чудом.
На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд{10}. Ветер после шторма был все время неблагоприятный и слабый, так что мы двигались еле-еле. В Ярмуте мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Ньюкасла, ибо Ярмутский рейд обычно служит местом стоянки для кораблей, которые дожидаются здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу.
Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не покрепчал еще больше. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас надежные; поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности — по обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море началось большое волнение, корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз зачерпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.
Тем временем разыгрался жесточайший шторм{11}. Растерянность и страх были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец», — что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые минуты переполоха оглушили меня: я неподвижно лежал в своей каюте рядом со штурвалом и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу; мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдет бесследно, как и первая. Но повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: на море вздымались валы вышиной с гору, и такая гора опрокидывалась на нас каждые три-четыре минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалеку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других — им было легче маневрировать; но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера;