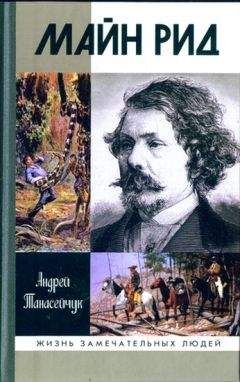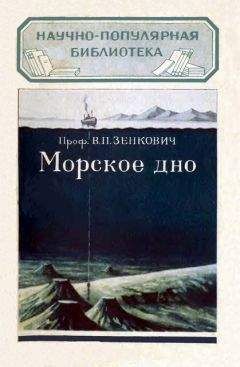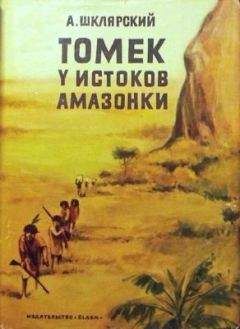Василий Головнин - Путешествия вокруг света
Теперь стали нас содержать, можно сказать, настоящим образом по-тюремному, так же точно, как и японца, вместе с нами заключенного.
Я уже сказал, в каких клетках мы были заключены; внутри они были очень чисты, а также и в коридорах наши работники мели каждый день. Когда же нас водили в замок, они выметали наши клетки и спальное наше платье выносили на солнце просушивать.
Кормили нас по три раза в день: поутру, в полдень и вечером. Пища состояла в крутой из сарачинского пшена каше вместо хлеба, которую давали по порциям, меркой, наподобие наших гречневиков. Такой порции для нас было слишком достаточно, и мы не могли всю ее съедать, но матросы находили, что она для них мала. Впрочем, это только вначале, пока после трудного нашего путешествия и претерпенного голода мы чувствовали большой позыв на еду, а после и для них порции сей было достаточно.
С кашей давали нам похлебку из морской капусты или из какой-нибудь дикой зелени, как то: из бортовнику, черемши или дегильев, подмешивая в нее для вкуса квашеных бобов, называемых по-японски мисо; к чему иногда прибавляли несколько кусочков китового жиру, а временем, вместо похлебки, давали кусочка по два соленой рыбы с квашеной дикой зеленью, что бывало по большей части по вечерам.
Пили мы теплую воду, и всегда, когда угодно было: если бывало ночью спрашивали мы пить, то караульные тотчас без всякого ропота будили работников и приказывали приносить нам воды. Но уже умываться нам здесь не приносили и гребней не давали, а умывались мы той водой, которую спрашивали для питья. Гребенку же стали давать через несколько времени после, и она, как кажется, была штатная тюремная, ибо зубцы ее были крайне малы – видно, для того, чтоб мы не могли ими сделать себе вреда.
Спустя несколько дней от последнего нашего свидания с губернатором повели меня одного в замок, где в присутствии некоторых чиновников первый и второй по губернаторе начальники меня расспрашивали, приказав прежде, чтоб я, по болезни в ногах, сел на поданный мне стул. До входа моего еще в присутственное место выходил ко мне Теске. Разговаривая со мной о Муре, сказал он, что Мур жестоко на нас сердит и говорил очень много дурного о наших поступках; но Теске советовал мне не печалиться, ибо японцы не расположены верить всем словам Мура. Сверх того сказал он мне, что Мур просился в японскую службу.
Прежде нежели японские чиновники стали меня спрашивать, я просил их, чтоб они позволили мне открыть им мои мысли и выслушали меня со вниманием, а переводчиков просил передавать мои слова как можно вернее. Они отвечали, что рады будут слушать все, что я желаю им сообщить.
Тогда я спросил их: «Если бы три японских офицера были где-нибудь в плену и двое из них сделали точно то, что мы, а третий то, что сделал Мур, и подробный отчет об их поступках дошел бы до Японии, то пусть они теперь мне скажут по чистой совести, как бы японцы стали о них судить».
Они засмеялись и не дали на вопрос мой никакого ответа, но вместо того старший из них сказал мне, чтоб я ничего не боялся: для японцев как Мур, так и все другие русские равны; им только нужно знать настоящее дело. Потом продолжал, что по японским законам ничего скоро не делается, и потому мы теперь в тюрьме; но когда приедет новый губернатор, нас переведут в другое, лучшее место, а после и в дом, и есть надежда, что правительство их велит отпустить нас в Россию.
После сего начали они меня спрашивать. Первый их вопрос был: справедливо ли, что они слышали от курильцев, будто Резанов участвовал в сделанном на них нападении, дав прежде о сем Хвостову повеление, которое после хотя он и отменил, но Хвостов не послушался, а исполнил первое повеление.
Нетрудно было мне угадать, кто таковы были эти курильцы: все это открыл им Мур. На сей вопрос я сказал, что мы никак не можем верить, чтобы Резанов участвовал в сем деле, но что Хвостов исполнил то без его повеления.
Потом японцы предлагали мне множество вопросов из лежавшей перед ними тетради касательно нашего плавания, предмета экспедиции, о состоянии России и о политических ее отношениях к европейским державам, а особенно к Франции. Я видел, что все их сведения получили они тем же путем.
Когда самое неприятнейшее для меня дело это было окончено, старший из двух чиновников сказал мне, чтобы мы ничего не боялись и не печалились, а помнили, что японцы такие же люди, как и другие, следовательно, никакого зла нам не сделают, и с таким утешением отпустил меня.
Вскоре после сего случая пришел к нам чиновник Накагава-Мататаро с обоими переводчиками. Они принесли с собой бумагу, в которой были записаны наши ответы, с тем, чтобы их проверить. При сем случае они нам сказали, что показание наше, где и как мы взяли ножи, а также известие, слышанное нами о повелении, как поступать с русскими судами, и об отправлении войск и пушек в Кунасири, не записано и чтоб мы в другой раз, когда губернатор станет нас спрашивать, о том не говорили. Это сделано было, без сомнения, для того, чтобы пощадить своих людей, в сем деле запутанных. Мы и сами, желая избавить от беды невинных солдат и работников, через оплошность коих получили мы ножи, а также спасти и самого Теске, охотно согласились на это предложение.
Но второе их требование было слишком нам противно; оно произвело между японцами и нами горячий спор и заставило Мататаро, против его обыкновения, слишком разгорячиться, бранить и угрожать нам. Он хотел, чтоб мы сами совершенно оправдали Мура, признали, что намерение его уйти с нами было действительно притворное и что он Симонова и Васильева никогда не уговаривал согласиться на наш план. Но мы на это не согласились и ничего не хотели переменить в ответах наших по сему предмету. Мы говорили: «Какое намерение имел в сердце Мур, нам неизвестно, но поступки его не показывали, чтобы он притворялся, и мы уверены, что он действительно хотел уйти с нами и, вероятно, ушел бы, если б робость ему не воспрепятствовала пуститься на такое отчаянное предприятие».
Мы имели весьма важные причины не давать ему способов вывернуться из этого дела. Считаю за нужное объяснить сии причины, чтобы читатели не приписали наших поступков мщению или желанию погубить Мура. Он, как я сказал выше, покушался исключить себя из числа русских и старался уверить японцев, что он родом из Германии. Следовательно, если б мы сами засвидетельствовали непричастность его в наших видах и всегдашнюю преданность к японцам, то немудрено, что японцы, погубив нас, могли бы отправить его на голландских кораблях в Европу для возвращения в мнимое его отечество, Германию, откуда он мог бы прибыть в Россию. Тогда, не имея свидетелей, в его воле было составить своим приключениям какую угодно повесть, в которой он, может быть, приписал бы свои дела нам, а наши себе, и сделал бы память нашу навеки ненавистной нашим соотечественникам.
Вот какая мысль более всего нас мучила, и потому мы не хотели отступить от истины для оправдания Мура. Впрочем, если б это оправдание, от нас зависевшее, могло доставить ему достоинство первого вельможи в Японии, лишь бы только не возвращение в Европу, мы охотно бы на это согласились, несмотря на то, что он изыскивал все средства вредить нам.[139] Мататаро и переводчики приходили к нам дня два или три сряду и уговаривали нас переменить наше показание касательно Мура; но как мы твердили одно и то же, то они нас оставили, но сделали ли какие-нибудь перемены в наших ответах, мы не знаем.
Между тем я крайне беспокоился мыслями, что Мур какой-нибудь хитростью выпутается из беды, получит со временем дозволение возвратиться в Европу, очернит и предаст вечному бесславию имена наши, когда никто и ни в какое время не найдется для опровержения его. Такая ужасная мысль доводила меня почти до отчаяния. Я в это время захворал, и хотя первые семь или десять дней лекарь к нам не ходил, несмотря на то, что матросы требовали его помощи, но теперь японцы умилостивились, и лекарь стал посещать нас каждый день.
Вскоре после того японцы немного улучшили наше содержание, начали иногда давать нам род лапши, называемой у них туфа; с кашей варили мелкие бобы, которые они почитают не последним лакомством, а несколько раз давали и похлебку из курицы; для питья же, вместо воды, стали давать чай.
Соседу нашему, японцу, содержавшемуся не шесть дней, как он нам сказал прежде, но гораздо более, сделано было на тюремном дворе телесное наказание,[140] так что мы крик его могли слышать. В тот же день пришел к нам с переводчиком Кумаджеро чиновник и уголовный судья Мататаро объявить, по приказанию губернатора, чтоб мы, слышав о наказании преступника, содержавшегося с нами в одном месте, не заключили, что и мы можем быть подвержены подобному наказанию, ибо, по японским законам, иностранцев нельзя наказывать телесно.
В то время мы думали, что сие уверение было ложное, сказанное только, чтоб нас успокоить; но после узнали, что действительно у них существует такой закон, из которого исключены только те иностранцы, кои будут проповедовать японским подданным христианскую религию; ибо против таковых у них есть самые жестокие постановления.[141]