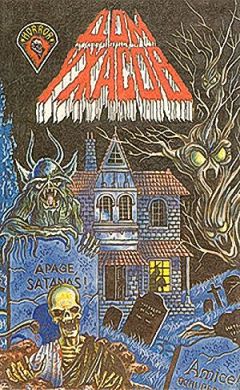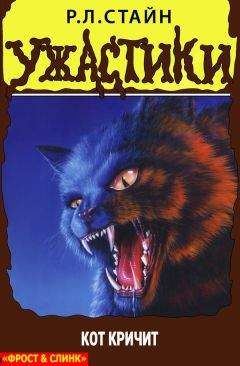Асгольф Кюстин - Россия в 1839 году. Том второй
Напоив весь трактир, главарь вертопрахов забавы ради наклоняется к разряженному крестьянину и подает ему пенящуюся чашу. «Пей!» — приказывает он. Бедный мужик, не имеющий никакого опыта в подобных делах, не знал, на что решиться… «Пей же, — повторил ему хозяин (мне перевели его слова), — пей, негодяй: я даю тебе шампанского не ради тебя, а ради твоих лошадей: если кучер не будет пьян, он не сможет заставить их всю дорогу мчаться вскачь!» На что все присутствующие ответили хохотом, криками «ура!» и рукоплесканиями. Убедить кучера не составило труда; он допивал третью чашу, когда его хозяин подал знак трогать и вновь с безупречной учтивостью заверил меня в том, что отказ мой искренно его огорчил. Тон у моего собеседника был настолько изысканный, что, слушая его, я на мгновение забыл, где происходит наш разговор, и решил, что оказался в Версале времен Людовика XIV.
Наконец мой повеса уехал в поместье, где собирается провести три дня. Приятели его именуют это развлечение летней охотой.
Нетрудно догадаться, чем забавляются эти вертопрахи в деревне; они проводят время по меньшей мере так же, как и в Москве: сцены повторяются прежние, но с новыми актрисами. С собой они везут целые пачки гравюр, воспроизводящих самые прославленные полотна французских и итальянских мастеров; они собираются разыгрывать их в лицах, слегка изменив костюмы.
Деревни и все, кто в них проживают, безраздельно принадлежат этим знатным распутникам; можете не сомневаться в том, что права сеньора в России простираются гораздо дальше, чем на сцене парижской Комической оперы.
Трактир ***, открытый для всех желающих, расположен на одной из самых больших московских площадей, в двух шагах от кордегардии, где расквартированы казаки, чья безупречная выправка вкупе с грустным и строгим видом внушают чужестранцу мысль, что в стране, куда он попал, никто не осмеливается смеяться даже над самыми невинными предметами.
Поскольку я вменил себе в обязанность изобразить вам Россию такой, какой увидел сам, я вынужден рассказать еще кое-что о разговорах тех людей, с забавами которых я вас только что познакомил.
Один хвастает тем, что и он, и его братья — дети гайдуков и кучеров своего отца, и поднимает бокал за здоровье всех этих родителей… впрочем, неведомых! Другой ставит себе в заслугу родство — по отцу — со всеми горничными своей матери.
Не все из этих гнусностей соответствуют действительности, многие, разумеется, суть чистой воды бахвальство, однако сам факт, что люди кичатся столь подлыми выдумками, свидетельствует о глубочайшей развращенности умов, которая, на мой взгляд, куда опаснее деяний этих повес, как бы безрассудны они ни были.
Судя по рассказам господ вертопрахов, московские мещанки ведут себя ничуть не более благонравно, нежели знатные дамы{220}.
Пока мужья их торгуют на Нижегородской ярмарке, офицеры местного гарнизона в свое удовольствие проводят время в городе. Свидания в эту пору незатруднительны: красавицы являются на них в сопровождении почтенных родственниц, чьему попечению доверили их при отъезде предусмотрительные мужья. Дело доходит до того, что за снисходительность и молчание эти дуэньи получают плату; то, что происходит при их покровительстве, нельзя назвать любовью: любви не бывает без целомудрия — таков приговор веков тем женщинам, которые ищут счастье не там, где нужно, и вместо того, чтобы возвышаться до нежности, опускаются до распутства. Защитники русских утверждают, что московские женщины не имеют любовников; не стану спорить: друзья, которых они заводят в отсутствие мужей, достойны какого-нибудь иного наименования.
Повторяю, я склонен сомневаться в правдивости подобных историй, однако у меня нет оснований сомневаться в том, что радостный и горделивый вид, какой принимают русские, пересказывая эти истории всякому иностранцу, означает: «Et anch'io son pittore!»[44] — и мы тоже люди цивилизованные!
Чем больше я узнаю об образе жизни этих знатных распутников, тем меньше понимаю, отчего, несмотря на все их грехи, они сохраняют здесь, выражаясь современным языком, то общественное положение, какое утратили бы в любой другой стране, где перед ними закрылись бы двери всех салонов. Мне неизвестно, как относятся к этим греховодникам, не стыдящимся своего беспутства, их родные, но я могу засвидетельствовать, что в обществе их встречают с распростертыми объятиями; при появлении этих вертопрахов всех охватывает веселье, присутствие их доставляет удовольствие даже особам более зрелого возраста, которые, разумеется, не берут с них примера, но поощряют их своей терпимостью. Все заискивают перед ними, стремятся пожать им руку, шутливо осведомиться об их приключениях, наконец, все стремятся выказать им — за неимением уважения — свой восторг.
Видя прием, оказываемый им повсюду, я задаюсь вопросом, что же нужно совершить в этой стране, чтобы утратить уважение общества.
Если у свободных народов по мере того, как демократия завоевывает себе все большую и большую власть, нравы делаются более невинными — пусть не по сути, но хотя бы по видимости, то здесь свободу путают с развращенностью, отчего знатные шалопаи снискивают здесь такой же успех, каким у нас пользуется горстка людей безупречных.
Юный князь *** сделался повесой вследствие трехлетнего пребывания в ссылке на Кавказе; тамошний климат испортил его здоровье. Из Петербурга он был выслан сразу по окончании учебы за то, что разбил стекла в нескольких столичных лавках; правительство усмотрело в невинной проказе политическое злоумышление и своей неумеренной суровостью превратило юного шалопая в зрелого распутника, погибшего для отечества, семейства и себя самого[45].
Таково ослепление, на которое обрекает умы деспотическая власть, безнравственнейшая из всех.
В России всякий бунт кажется законным, даже бунт против разума, против Бога! Ничто из того, что служит угнетателям, не считается здесь достойным почтения, даже то, что во всех других странах именуют святым. Там, где порядок лежит в основе угнетения, люди идут на гибель ради беспорядка; там все, что ведет к мятежу, принимается за самоотверженность. Ловлас и Дон Жуан предстают в такой стране освободителями исключительно оттого, что преступают закон: когда правосудие не пользуется уважением, в почете оказывается злодейство!.. Вся вина в этом случае возлагается на судей! Злоупотребления правительства так велики, что всякое повиновение ему встречается в штыки, в презрении к добронравию здесь признаются точно таким тоном, каким в любом другом месте сказали бы: «Я ненавижу деспотизм!»