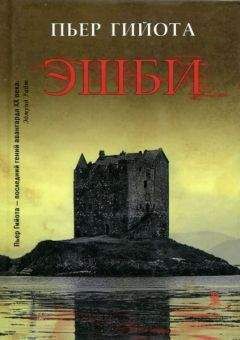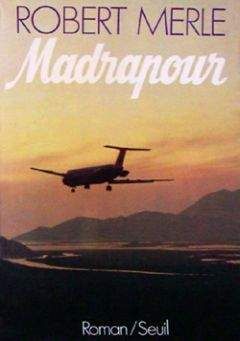Жан-Пьер Шаброль - Миллионы, миллионы японцев…
Она ликует.
Мэтр Абе неплохо объясняется по-французски.
— Я пробыл во Франции восемь лет, преподавал каратэ парижским полицейским, потом парашютистам, потом личной охране, секретным агентам…
Мадам Мото церемонно оказывает ему знаки почтения. Она сообщает, что окончательно порвала со славным Мату. Причины разрыва мне неясны, но ясно, что мадам Мото собирается наказать «предателя»…
— Правильно, правильно, — поддакивает мэтр Абе, — в делах надо держать слово. Теперь, когда с вами работаю я, дело пойдет на лад!
При этом он бросает мне самый двуличный взгляд, какой я когда-либо видел. Надо радоваться, если заметишь такой взгляд вовремя.
— Он милый, а? Он хорошо, очень, очень хорошо!; Он честный! Не как Мату! Он, мэтр Абе, очень, очень честный, о-о! Я довольна!
Расставаясь, мэтр Абе предлагает мне свои услуги:
— Если вам кто надоедает, вы сообщите мне только имя и адрес, и назавтра он больше не будет приставать!
4. Мои коктейли… и кимоти
Пятница, 26 апреля, 9 часов
В номере гостиницы
Заключительный бой!
Я принял решение засесть за литературный сценарий страниц на тридцать и не выйду из номера, пока не поставлю точку. Как бы там ни было, а потом я смогу наконец спать спокойно.
Сейчас я хочу лишь описать любопытную встречу, которая была у меня вчера вечером.
Я отправился погулять один в сторону Гиндзы и остановился купить орехов у старика, торговавшего на углу. Неловким движением я рассыпал всю мелочь и довольно звонко вскричал: «Зараза!» — как человек, умеющий использовать немногие преимущества того обстоятельства, что он единственный француз на улицах Токио.
— Ах, вы француз, — любезно заметил торговец орехами.
Он казался даже не худым, а изможденным. Костюм сидел на нем хорошо, но материя износилась быстрей кожи, восковато-желтой и настолько прочной, что она даже не морщинилась. Он был чистым и скромным, как подобает старому японцу.
— Вы прекрасно говорите по-французски!
— Признаться, я еще не разучился.
Я обращался к старику вежливо и почтительно, как ни к одному японцу. Мне очень хотелось узнать его историю, но чувство такта мешало задавать слишком прямые вопросы.
— Пять лет я был коммерческим директором по экспорту, много выезжал за границу — во Францию, Бельгию, Швейцарию, Северную Африку… Пятьдесят — пятьдесят пять лет, что за прекрасные годы, дорогой мосье, лучшие в жизни…
Я его прекрасно понимал. Отчасти из его ответов, отчасти из того, что угадывалось, я представлял себе его жизнь, но, чем яснее она мне рисовалась, тем меньше я решался расспрашивать.
В школе он преуспевал, особенно во французском. Ему повезло — он поступил работать в крупную фирму. Постоянно продвигался по службе. Наконец, в пятьдесят лет стал начальником отдела — бутё. Фирма записала его в клуб по гольфу, брала ему железнодорожные билеты первого класса, посылала за ним домой машину с флажком, дала квартиру, отапливала ее, командировала его учиться в страны французского языка. Однажды, когда он был на вершине этого счастья, давно ожидаемого, но еще далеко не исчерпанного, в день его пятидесятипятилетия, он получил ужасное письмо с уведомлением об отставке. Письмо было напечатано на машинке, от руки было вписано только имя. Он стал ничем. У него уже не было ни работы, ни дома, ни машины, ни командировок, ни друзей, ни любимых занятий. У него не было даже права на то, чтобы иметь визитные карточки, носить значок.
— Что поделаешь, мосье, таков порядок. В моей конторе это никого не взволновало. Мой заместитель — он моложе меня на три года — с большим удовольствием пересел со своего стула в мое кресло, не задумываясь над тем, что через четыре года придет его черед. Все, от самого старого до самого молодого, переменили свое место на лучшее, забыв обо мне. Я уверен в этом, хотя больше их не видел. Наши студенты борются, как молодые волки, за то, чтобы пенсионный возраст начинался с пятидесяти лет. Это можно понять: в их годы никто не задумывается над тем, что однажды тебе тоже стукнет пятьдесят. А безработица велика! Вон видите, там никоён[33] работает на бетономешалке: у него научная степень.
Японец, получивший отставку, стоит перед дилеммой — либо ежемесячная пенсия, либо единовременное пособие. Если его последнее жалованье было относительно высоким, пособие достигает двух-трех миллионов иен. Свыше девяноста пяти процентов японцев выбирают пособие.
И тут на них набрасываются фирмы, предлагая поместить капитал. Одно предложение заманчивее другого. Многие из этих фирм оказываются банкротами или дутыми предприятиями. Есть неофициальные организации, цель которых — выкачивать пособие у пенсионеров до их полного разорения. Последние пополняют газетную рубрику «Самоубийства», разрастающуюся в два раза только в экзаменационный период.
Прохожие, заинтригованные нашим затянувшимся разговором, замедляли шаг, прислушивались и даже собирались группами на противоположной стороне улицы.
— Вы гайдзин — иностранец?
— А что ж тут особенного?
— Они странные! — закудахтал старик. — Обо всем-то они хорошо осведомлены, все знают, сказочно богаты. У них много мебели и всяких полезных вещей, всего, чего они только пожелают; они ловкие, но безнравственные; у них огромные ноги, не нос, а хобот, глаза, как у собаки, от них скверно пахнет, они грязные и плохо воспитаны, все они шпионы. Прощайте, сударь!
— Вас не компрометирует разговор со мной?
— Прощайте, сударь!
Мне кажется, дело было в том, что в своем районе торговец орехами скрывал, что знает иностранный язык. Чанг, которого я встретил несколько минут спустя, тоже был склонен так объяснить его поведение.
— Японцы всегда в большей или меньшей степени относятся с подозрительностью к иностранцу, — сказал мой друг-китаец, — и я их понимаю, хотя страдаю от этого первый, несмотря на то что у меня кожа такого же цвета, как и у них…
Он напомнил, что почти три века Япония была совершенно изолирована от внешнего мира. Только немногие голландские купцы получали разрешение причаливать к ее берегам, но и их держали в своего рода тюрьме на острове Дэсима. Начиная с семнадцатого века японец был обязан «доносить о другом все, что кажется ему выходящим за рамки обычного».
— Особенно об иностранце! В Японии остались свидетельства такой подозрительности: в 1855 году Таунсэнд Гаррис, первый американский консул в Японии, провел несколько месяцев в городе Симода; там и сейчас можно видеть восемь томов «Лучших доносов о делах и шагах Иностранца».