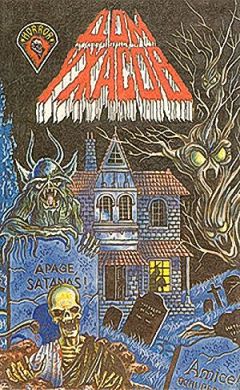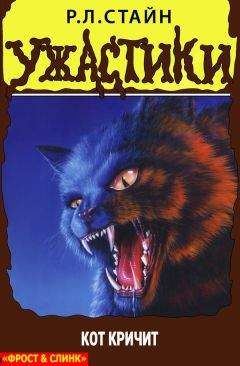Асгольф Кюстин - Россия в 1839 году. Том второй
Сочинения самых дерзких из наших нравоописателей — суть не что иное, как слабые подражания тем оригиналам, которые постоянно предстают передо мною в России.
Вероломство губительно во всем, в особенности же в делах торговых; меж тем в этой стране оно простирается так далеко, что даже распутники, заключающие между собою тайные сделки, не могут быть уверены в добросовестности сообщников.
Постоянные изменения денежного курса благоприятствуют множеству обманов; из уст русского вы не услышите точного слова, ясного и четкого обещания, причем неопределенность его речей всегда идет на пользу его кошельку. Эта вечная путаница затрудняет даже сообщение между любовниками, ибо каждый из них, зная наперед лживость другого, желает получить плату вперед, и из этого взаимного недоверия проистекает невозможность договориться до чего бы то ни было, несмотря на добрую волю договаривающихся сторон.
Крестьянки в России куда хитрее жительниц города; иногда эти юные дикарки, развращенные вдвойне, нарушают первейшие заповеди своего ремесла, чтимые любой проституткой, и убегают со своей добычей, даже не исполнив того постыдного долга, за который получили плату.
В других странах разбойники держат данное слово; они блюдут свои воровские законы, русские же куртизанки или падшие женщины, ведущие себя так же порочно, как и разбойники, не имеют ничего святого и не уважают даже той религии разврата, что сулит успех их делу. Недаром ведь говорится, что в самых постыдных делах потребна своего рода честность.
Один офицер, человек знатного рода и большого ума, рассказал мне нынче утром, что некогда получил и оплатил дорогой ценой столь памятный уроки, что теперь. ни одна сельская красавица, какой бы простодушной и неразвитой она ни казалась, не может добиться от него ничего, кроме обещаний. «Ты не веришь мне, а я — тебе!» — вот фраза, которую он невозмутимо противопоставляет всем домогательствам.
В других краях цивилизация возвышает души, здесь — развращает. Русские были бы нравственнее, оставайся они более дикими; просвещать рабов — значит подрывать устои общества. Дабы приобщиться к культуре, человеку потребен некоторый запас добродетели.
Стараниями своего правительства русский народ сделался молчалив и плутоват, хотя от природы он мягок, весел, послушен, миролюбив и красив; все это, конечно, замечательные свойства, однако без чистосердечия цена им невелика. Монгольская алчность этого племени и его неискоренимая подозрительность выказывают себя как в самых пустяковых, так и в самых значительных жизненных обстоятельствах. В латинских странах обещание почитается вещью священной, а слово — залогом, которым дорожат в равной мере и тот, кто дает обещание, и тот, кому его дают. У греков же и их учеников — русских слово не что иное, как воровская отмычка, служащая для того, чтобы проникнуть в чужое жилище.
По любому поводу креститься на образа прямо на улице, а так же садясь за стол и вставая из-за стола (как поступают здесь даже великосветские господа) — вот и все, чему учит греческая религия; остальное отгадать нетрудно.
Неумеренность (я говорю не только о простолюдинах, многие из которых — горькие пьяницы) доходит здесь до таких пределов, что один московский весельчак, душа общества, ежегодно пропадает из города месяца на полтора, не более и не менее; если же вы поинтересуетесь, что с ним сталось, то получите исчерпывающий ответ: «Он запил!..»
Русские слишком легкомысленны, чтобы быть мстительными; они — элегантные моты. Я с удовольствием повторю: они в высшей степени любезны, но учтивость их, как бы вкрадчива она ни была, нередко утрачивает меру и становится утомительна. В таких случаях я начинаю мечтать о грубости: она, по крайней мере, естественна. Первое правило того, кто желает быть учтивым, — произносить лишь те комплименты, которые собеседник вправе принять; все остальные суть оскорбления. Настоящая учтивость — свод речей, исполненных лести, но лести, тщательно скрываемой; нет ничего более лестного, чем сердечность, ибо для того, чтобы ее выказать, надо проникнуться к человеку подлинной симпатией.
Среди русских есть люди весьма учтивые, но есть и совсем невоспитанные; эти последние держатся с оскорбительной нескромностью; по примеру дикарей они осведомляются ни с того ни с сего о самых важных вещах так, словно это самые ничтожные пустяки; они засыпают вас вопросами, какие задают только дети и шпионы; они досаждают вам ребяческими или бесцеремонными просьбами, интересуются мельчайшими подробностями вашей жизни. Природа создала славян любознательными, и лишь хорошему воспитанию и светским привычкам под силу обуздать их пытливость; те же, кто обделен этими преимуществами, ни за что не упустят возможности подвергнуть вас допросу: их интересуют цель и результаты вашего путешествия; задавая вопрос за вопросом до тех пор, пока им не надоест, они безо всякого стеснения спрашивают, «предпочитаете ли вы Россию другим странам, находите ли вы Москву городом более красивым, чем Париж, петербургский Зимний дворец строением более великолепным, чем замок Тюильри, Царское Село резиденцией более просторной, чем Версаль», причем каждое новое лицо, с которым вас знакомят, заставляет вас вновь принимать участие в этом диалоге, где национальное тщеславие обрекает на лицемерное дознание чужестранную общежительность. Это плохо скрытое тщеславие тем более раздражает меня, что оно всегда рядится в маску слащавой, хотя и грубоватой скромности, призванной обмануть собеседника. Мне кажется, будто я разговариваю с хитрым, но невежественным школьником, который нисколько не смущается своей нескромности, ибо сам имеет дело исключительно с людьми учтивыми, не умеющими ни в чем ему отказать.
Меня познакомили с неким юношей, судя по рассказам, человеком весьма любопытным; это князь ***, единственный сын очень богатого отца; впрочем, сын этот проматывает вдвое больше, чем имеет, транжиря не только свое состояние, но также свой ум и здоровье{216}. Восемнадцать часов в сутки он проводит в кабаке; кабак — его вотчина; там он царит, там, на этом подлом театре, выказывает совершенно естественно и непроизвольно манеры самые величественные и благородные; вид у него умный и очаровательный, что полезно везде, даже в стране, где чувство прекрасного развито очень слабо; он добр и неглуп; говорят, ему случалось совершать поступки благодетельные и даже трогательные.
Воспитанный старым французом-аббатом, человеком весьма почтенным, он превосходно образован: его живой ум на редкость проницателен, шутки всегда самобытны, но речи и поступки исполнены цинизма, который показался бы нестерпим в любом городе, кроме Москвы; лицо его, приятное, но беспокойное, обличает противоречие между натурой и поведением; он храбро предается разврату, который, вообще говоря, не располагает к храбрости.