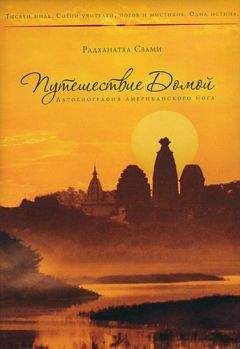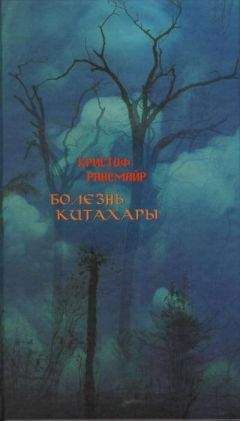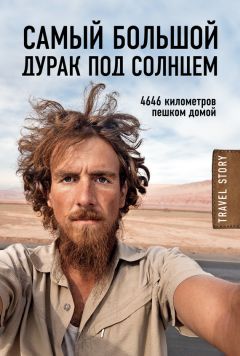Кристоф Рансмайр - Ужасы льдов и мрака
28 октября на широте Лонгьира погас последний сегмент солнца. Дальше к северу ландшафты Свальбарда давно уже погрузились в сумерки. Первые из ста десяти дней полярной ночи шахтерский поселок проводил в синем полумраке; душераздирающий визг моторных снегокатов; изредка тишина. Хьетиль Фюранн все чаще углублялся в свои зимние труды и оставлял Мадзини одного с собаками. Океанограф систематизировал данные измерений, собранные за последние месяцы в Ледовитом океане, делал выводы, которых от него ждали в Осло, а в начале ноября вновь принялся эмалировать кусочки меди и выкладывать из них мозаики – яркие цветные узоры. Мадзини иногда заходил к Фюранну, помогал ему, подавая то и это, и рассказывал о руках миниатюристки Лючии, расписывавшей бесконечные медальоны крохотными, всегда одинаковыми пейзажами.
На второй неделе ноября Хьетиль Фюранн улетел в Осло, чтобы прочесть в Полярном институте свой ежегодный доклад. Три дня он провел в Осло и еще четыре – в Тромсё. А когда вернулся в Лонгьир, комната Йозефа Мадзини была пуста. Собаки тоже отсутствовали.
Итальянец? Так его же видели в пятницу, нет, в четверг, с санями и упряжкой. А потом еще и на почте… хотя нет, это было раньше. Поехал куда-то? Насчет этого никто ничего не знал. Бойл почти все время пропадал в шахтах или сидел в баре и никем не интересовался. Флаэрти находился в Ню-Олесунне… А в лавке у Муена итальянец ничего не закупал? – Ну точно, газовые баллоны для плитки, консервы и все такое… но в остальном… Искали Йозефа Мадзини долго, в самых отдаленных местах – поначалу чертыхаясь и только на снегокатах, в уверенности, что этот дурень сидит себе где-нибудь в избушке или в палатке и даже не догадывается, что доставляет множеству людей уйму хлопот. Стужа такая, что снег скрипит под ногами. Но весь шум идет только от них самих, от спасателей; если они замирают, повсюду воцаряется тишина. Избушка Фредхейма, добротное, надежное укрытие у Темпель-фьорда, стоянка в прежних тренировочных походах с упряжкой, занесена снегом и пуста. Когда наконец в воздух подняли вертолет, никто уже не чертыхался. Впрочем, поисковые вылеты всего лишь подтвердили, что следов нигде нет, ледники пустынны. Потом погода резко ухудшилась, и два дня прошли в бесплодном ожидании. Фюранн вспомнил о Юстейне Акере – что, если Мадзини по безрассудству двинул к мысу Табор? Когда ветер и метель поутихли, океанограф вместе с двумя пилотами – Бергом и Кристиансеном – вылетел к этому последнему приюту. Темная, смутная земля канула в глубину. На горных грядах и ледниках – подвижный снег. Льды во фьордах сплотились пепельно-серой броней. Время сжималось. Бесконечные пустыни, которые океанограф некогда проезжал на собаках за несколько дней, сейчас проплывали внизу за считанные минуты, пропадали из вида. Недели оборачивались часами. А часы – ничтожными мгновениями. Потом вереница тускло-серебряных фигур обозначила плавный изгиб побережья; это были пирамиды плавника, отшельник воздвиг их на берегу за короткие летние месяцы. А вот и избушка, притулившаяся во льду, маленькая, едва ли намного больше деревянных пирамид. Мыс Табор темен и пуст. Внизу появился человек, поднял голову, защищаясь руками от снежных туч, поднятых ротором вертолета. Собаки на длинных цепях, числом шесть, глухо зарычали на чудовище, опускающееся прямо на них. Потом океанограф сквозь рев мотора и обжигающий снежный вихрь устремился к отшельнику Юстейну Акеру, гаркнул: Здорово! Где он? Здесь, у тебя? – схватил старика за плечи. Акер же только теперь разглядел, кто к нему нагрянул, удивился, ничего не понял, засмеялся на радостях и крикнул в ответ: Ты о ком? Я тут один, никого тут не было.
ГЛАВА 17
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
20 мая 1874 года австро-венгерская полярная экспедиция покидает свое последнее прибежище: вечер, Вайпрехт велит прибить к топам мачт «Адмирала Тегетхофа» имперские флаги. Обряженный для гибели трехмачтовый барк стоит теперь среди оцепенелых, усыпанных мусором волн. Все приготовления закончены; морской начальник приказывает экипажу построиться и троекратным «ура» попрощаться с оставленным кораблем, в знак благодарности. Потом он дает знак к выступлению.
Под полуночным солнцем матросы и офицеры тащат три тяжело нагруженные спасательные шлюпки – три крепкие норвежские китобойные шлюпки с мачтой и люгерным парусом; поставленные на полозья, они движутся по ледяным торосам и по глубокой, скользкой снежной шуге рывками, метр за метром. Часто люди проваливаются по пояс – лишь на такой глубине ноги нащупывают твердый лед, – и шлюпки проваливаются вместе с ними.
Лямки до крови натирают плечи и ладони, и в первые же часы некоторых рвет от натуги. Девяносто центнеров снаряжения и провианта везут они с собой, а ведь каждый отрезок пути и каждое препятствие им приходится одолевать трижды, потому что транспортировка одной-единственной шлюпки требует всех сил, какие у них есть. Так проходит эта ночь: мучительно медленно они тащатся вперед, волокут шлюпки одну за другой прочь от «Тегетхофа». Но после десяти часов такой надсады уходят от корабля не более чем на километр, и красавец барк вновь влечет их к себе: как хорошо было бы отдохнуть там, на койках, куда теплее и безопаснее, нежели в тесных шлюпках, под брезентом. Им очень плохо без корабля. Но Вайпрехт неумолим. Вайпрехт никого на корабль не отпускает. Мы на пути в Европу, говорит он, мы оставили корабль. И вот после первого, крохотного перехода они лежат под брезентом, скрюченные, промокшие, измученные, – до смешного близко от «Тегетхофа». А Европа бесконечно далеко. Даже если б они могли идти к норвежскому берегу строго по прямой, не обходя часами каждый ропак, каждую трещину – строго по прямой! – и не спуская шлюпки по десять и пятнадцать раз на дню в разводья и полыньи, делая три гребка веслами, а затем снова вытаскивая шлюпки на лед, – даже если б они умели летать, до побережья, к которому они стремятся, все равно пришлось бы одолеть без малого тысячу миль. А летать они не умеют.
Кому эта правда невмоготу, может и на сей раз утешаться надеждой, что будущее окажется доброжелательнее, собственные силы – крепче, льды – проходимее, а груз полегчает. Но те, кто пережил пытку санных походов по негостеприимным новым землям, знают, что мучения всегда множатся, только множатся. Правда такова, что первый день обратного пути был лишь примером следующих недель и месяцев, лишь образчиком времени, которое в итоге станет для них квинтэссенцией всех невзгод и разочарований арктических лет. Спустя две недели Вайпрехт, Орел и десять матросов возвращаются к кораблю (до него пока лишь несколько километров) за последней шлюпкой. Но и распределив груз по четырем шлюпкам, они продвигаются вперед еле-еле, иной раз на день-другой застревают в паковых торосах и ждут, когда трещина расширится до разводья или обломки льдин осядут (весна все-таки, тепло!) и наконец-то откроют путь. А это ожидание еще страшнее, чем когда-либо на борту «Тегетхофа». Если же они пробивают себе дорогу кирками и лопатами, бывает и так, что после недельных трудов мир обломков вдруг раскалывается и смыкается опять, образуя новые, на сей раз непреодолимые барьеры. Тогда они волей-неволей поворачивают назад и ищут другую дорогу. Провиант и силы тают. Если им улыбается охотничья удача, они едят сырую медвежатину и тюлений жир. Но их самих гложут, изнуряют льды. Порой, в удачные дни, когда они полагают, что сумели продвинуться на юг, дрейф полярных льдов потихоньку-полегоньку подхватывает их и вновь относит на несколько дуговых минут к северу. После двух месяцев пути они всего-навсего километрах в пятнадцати от исходной точки, горы Земли Франца-Иосифа по-прежнему близко. Однако оптимизм Вайпрехта непоколебим. Вся наша надежда, говорит морской начальник, только на этот переход через льды, другого спасения нет; мы дойдем до берегов Новой Земли и отыщем какой-нибудь корабль, хотя бы зверобойный; мы поплывем в Норвегию, не пойдем пешком, а поплывем. Он твердит это снова и снова. И те из матросов, кто роптал, полагая, что все эти жестокие муки совершенно напрасны и куда лучше было бы вернуться на «Тегетхоф» и в крайнем случае зазимовать там в третий раз, ждать, чтобы море подобрело, ждать чуда или хотя бы смерти, зато в сухой каюте… – даже они уже не ропщут после речей Вайпрехта, день-другой не ропщут. Но подлинных своих чувств морской и ледовый начальник не поверяет в эти дни никому; в дневнике возвращения (эту узкую, размером с нагрудный карман, книжицу лишь спустя десять лет найдут в его архиве) он карандашом, неизменно красивым готическим почерком записывает вот что: