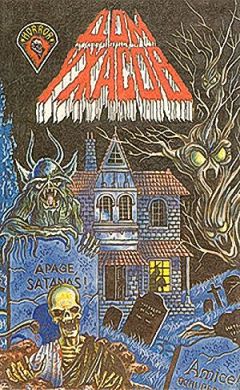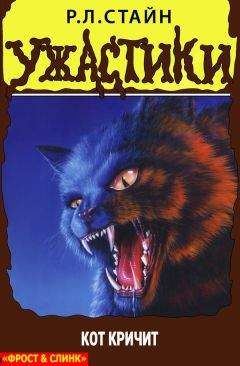Асгольф Кюстин - Россия в 1839 году. Том второй
Конечно, будь Москва морским портом или хотя бы центром, откуда расходятся во все стороны железные колеи — электрические проводники человеческой мысли, призванные, кажется, удовлетворить некоторые из нетерпеливых желаний того века, в каком нам довелось жить, здесь невозможно было бы наблюдать такие картины, как та, что предстала мне вчера в Английском клубе: военные всех возрастов, щеголи, важные господа и легкомысленные юнцы, на несколько мгновений прервав беседу, осеняли себя крестом, прежде чем сесть за стол, причем дело происходило не дома, не в кругу семьи, но на людях, в обществе, состоящем из одних мужчин. Люди, воздерживающиеся от исполнения этого религиозного долга (их было немало), следили за действиями соседей без удивления; как видите, Париж недаром отделяют от Москвы добрых восемьсот лье.
Дворец, в котором обосновался клуб, показался мне просторным и красивым; он устроен и обставлен подобающим образом, и в нем можно найти почти все, что имеется в других клубах. Это меня не удивило, но вот благочестием русских я был искренне восхищен, о чем и сообщил особе, введшей меня в клуб{192}.
Мы беседовали наедине, удалившись в глубь сада; дело происходило после обеда. «Не стоит судить о нас по видимости», — отвечал мой собеседник, один из просвещеннейших подданных Российской империи, в чем вы скоро убедитесь. «Однако, — возразил я ему, — именно эта видимость и внушает мне уважение к вашей нации. У нас все боятся только ханжества, а ведь цинизм куда более губителен для общества». — «Да, но он менее отвратителен для великодушных сердец». — «Не спорю, — продолжал я, — но отчего выходит, что громче всех обличают святотатство именно безбожники, которые поднимают шум, стоит им только заподозрить, что в сердце человека чуть меньше благочестия, чем он выказывает в поступках и словах? Будь наши философы последовательны, они увидели бы в ханжестве одну из опор государственной машины. Верующие куда более покладисты, чем безбожники». — «Я не ждал от вас апологии ханжества». — «Я ненавижу его как отвратительнейший из пороков, но утверждаю, что ханжество, не причиняющее человеку вреда ни в чем, кроме его отношений с Господом, менее опасно для общества, чем наглое безбожие, и настаиваю на том, что именовать его осквернением святыни вправе лишь особы истинно благочестивые. Людям неверующим, государственным мужам, исповедующим философические убеждения, следовало бы относиться к ханжеству снисходительно и даже использовать его как мощное средство воздействия на политику, однако французы избирали этот путь очень редко, ибо галльское чистосердечие отказывается править людьми с помощью лжи; напротив, наши расчетливые соперники научились извлекать пользу из спасительной лжи куда лучше, чем мы. Разве Англия, страна, где царит дух сугубо практический, не получила щедрого вознаграждения за богословскую непоследовательность и религиозное лицемерие? Англиканская церковь, вне всякого сомнения, подверглась реформам в гораздо меньшей степени, нежели церковь католическая; после того как Тридентский собор удовлетворил законные требования князей и народов{193}, сделалось невозможным выдвигать в качестве предлога для разрушения церковного единства борьбу со злоупотреблениями, которые иные люди, присвоившие себе роковое право создавать секты, осуждают на словах и умножают на деле; меж тем Церковь, зиждущаяся на очевидных противоречиях и созданная благодаря незаконному присвоению чужих прав, по сей день помогает своей стране покорять мир, страна же платит ей лицемерным покровительством; способ этот может показаться отвратительным, но он безотказен. Поэтому я утверждаю, что непоследовательные и ханжеские деяния, чудовищные с точки зрения людей истинно религиозных, не должны оскорблять ни философов, ни государственных мужей». — «Не хотите же вы сказать, что среди прихожан англиканской церкви нет ни одного искренне верующего христианина?» — «Нет, я допускаю, что в этом случае, как и во всех прочих, правило знает исключения, однако я убежден, что большинство тамошних христиан действуют непоследовательно, что, впрочем, никак не мешает мне, французу, завидовать религиозной политике англичан; равным образом восхищаюсь я и благочестивым смирением русских. У французов всякий священник, пользующийся доверием народа, кажется угнетателем тем вольнодумцам, что вот уже сто тридцать лет управляют страной»{194} и либо открыто, посредством своего революционного фанатизма, либо тайно, посредством своего философического равнодушия, погружают ее в хаос.
Мой истинно просвещенный собеседник, казалось, глубоко задумался; после продолжительного молчания он сказал: «Мои взгляды не так далеки от ваших, как вы думаете; путешествуя по Европе, я никогда не мог постичь одного обстоятельства, представляющегося мне необъяснимым: я говорю о враждебности либералов — даже тех, кто именуют себя христианами, — католической религии. Неужели эти люди (а среди них есть такие, которые рассуждают весьма здраво и доводят свои рассуждения до логического конца) не видят, что, отрекаясь от римской религии, они лишают себя покровительницы, способной защитить их от деспотизма, свойственного правительству любой страны, какие бы убеждения оно ни исповедовало?» — «Вы совершенно правы, — отвечал я, — но миром правит привычка; в течение многих столетий самые светлые умы так громко бранили нетерпимость и алчность Рима, что никто у нас еще не успел изменить точку зрения и понять, что папа как духовный глава Церкви есть незыблемая опора религиозной свободы во всем христианском мире, а как светский владыка — досточтимый правитель, викарий Иисуса Христа, несущий свое двойственное бремя и отстаивающий свою независимость с превеликим трудом, ибо политика его, бессильная внутри страны, уже давно не страшна никому за ее пределами.
Как не разглядеть с первого же взгляда, что всякая нация, безоговорочно принимающая католическую веру, неизбежно становится противницей Англии[37], чья политическая мощь зиждется исключительно на ереси? Если Франция поднимает и защищает всею силою своих убеждений знамя Католической Церкви, она уже одним этим объявляет во всех концах света страшную войну Англии. Все это — истины, которые в наше время, кажется, не могут не быть очевидными для всех, между тем по сей день над ними еще не задумался никто, кроме нескольких особ — заинтересованных и потому не пользующихся доверием: ведь особенность нашей эпохи заключается в том, что французы воображают, будто человек, сколько-нибудь заинтересованный в том, чтобы говорить правду, непременно лжет: здравый смысл вызывал бы больше доверия, будь доподлинно известно, что он решительно бесполезен{195}… Таково смятение, царящее в умах после полувека, отданного революциям, и сотни с лишним лет, прошедших под знаком философского и литературного цинизма. Разве нет у меня оснований завидовать вашей вере?»