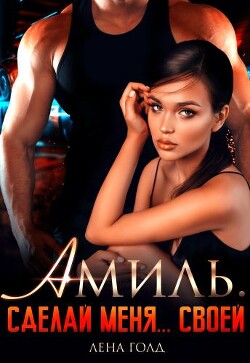Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды - Кружков Григорий Михайлович
Впрочем, Клэр был вовсе не так прост. Его собственные воспоминания о Лондоне и портретные зарисовки тех же Рейнольдса, Лэма, Хэзлитта и других остры и независимы. «Деревенщина»? Деревенским в нем были лишь непосредственность и простодушие. Недаром Томас Гуд в своем словесном портрете поэта отмечает «изящное сложение, тонкость черт и нежный цвет лица, напоминающий скорее о Саде, чем о Пашне». Но наиболее точно и кратко общее впечатление от Клэра в Лондоне сформулировал Тейлор в частном письме:
«От нас только что уехал Клэр… Он был прекрасным Гостем, может быть, только чересчур воодушевлявшимся от Стаканчика Эля — Он встречался со всеми нашими Литературными Знакомцами и установил добрые отношения со всеми. Он не умеет каламбурить, но зато обнаружил такой запас Здравого Смысла и в разговоре делал такие проницательные Замечания — притом, что его Суждения о Книгах были глубоки и серьезны, — что, каков бы ни был Предмет Беседы, его всегда было интересно слушать».
Клэра, как поэта, выбившегося из необразованных низов, зачастую сравнивают с Бёрнсом. Такое сравнение в корне неверно. Бёрнс принадлежал к классу фермеров, а Клэр — к самому низшему классу наемных сельских рабочих: между этими классами проходила резкая граница. По сути, фермеры стояли ближе к сквайрам, чем к той деревенской голытьбе без кола, без двора, откуда вышел Клэр, и, как правило, относились к этой голытьбе, из которой они нанимали себе батраков, с бо́льшим высокомерием, чем даже сельские сквайры.
«Поэт-пахарь» Роберт Бёрнс получил вполне приличное образование, он учился философии, истории, физике, французскому языку и латыни. Батрак Джон Клэр не выучился даже грамотно писать; двадцать пять первых, самых важных лет он прожил в такой полной изоляции от всякой культурной среды, как если бы он был пленником замка Иф. Тяжелая работа от зари до зари не располагает к изящному, наоборот, она убивает всякую любознательность, всякую любовь к книгам и учению. То, что Клэр сумел сохранить в душе детское очарование поэзией, — чудо. Сродни десятилетиями лелеемой мечте узника о побеге.
Он батрачил за гроши; урывками, втайне от всех, писал стихи и засовывал их в щель между кирпичами, которая казалась ему надежным тайником; но мать, приметив это, нередко брала несколько листков на растопку печи: так погибло большинство его ранних стихотворений.
Одна природа была его сочувственницей. Только в одиночестве среди полей, ручьев и лесов он ощущал себя счастливым. Его стихи доказывают, что он любил все эти травинки и деревья, букашек и улиток, оттенки неба и облаков, самозабвенно и бескорыстно. В детстве, он, правда, как и другие мальчишки, разорял гнезда, но, повзрослев, только удивлялся им и мог часами следить за жизнью какого-то птичьего семейства. Чем дальше, тем больше он отвращался от любого насилия и жестокости. Когда в своем удивительном стихотворении «Барсук» (1830-е годы) он восстает против варварской английской забавы — травли барсуков собаками, — степень его сочувствия достигает полного отождествления: автор сам становится барсуком, сам отбивается от кровожадных врагов, ненавидит их, сражается до последнего и гибнет в неравном бою.

Вообще-то, любовь к природе — не крестьянская черта. Природой обычно восхищаются горожане, дорвавшиеся до зелени и тишины (как Китс, например) или обеспеченные сельские жители, у которых довольно досуга (как Вордсворт, рисовавший ее идеальный образ «вдали от суетного света»). Даже у Роберта Бёрнса природа, в основном, служит фоном для лирического или обличительного монолога («К срезанной плугом маргаритке», «О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня»). Джон Клэр поражает и обескураживает читателя отсутствием всякой морали. Он не обменивает своей любви к природе на откровение, как, например, Вордсворт. В его восхищении всеми формами жизни есть нечто буддийское — как сказали бы сегодня, «экологическое». Он просто смотрит и делится с нами радостью от увиденного.
Вот, скажем, начало стихотворения:
И так далее, и тому подобное. Мы ждем — вот сейчас начнет вырисовываться вывод, но ничего не вырисовывается, стихотворение заканчивается так же описательно, как и началось. Это может вызвать разочарование. Но может быть и освежительно для читателя, уставшего от непременных сентенций и епифаний.
Кто-то, пожалуй, почувствует себя чуть ли не обманутым: вот, я прочитал целое стихотворение — для чего? где тут вывод? Но не то же ли это, что ждать вывода от жизни, верить, что в конце откроется смысл, «все распутается» (Кант)? И вот жизнь прожита, а откровения нет. Обделили?
Да нет же, оглянитесь назад, подсказывает нам Клэр, — откровение уже было, каждый миг этой жизни был откровением, каждая деталь, каждая мелочь в ней была откровением: удивляйтесь, радуйтесь и смотрите!
Вы можете сказать, что такого у него нет, я сам «вчитываю» это в Клэра. Не спорю. Может быть. Но и тогда спасибо автору, который дал мне возможность впитывать это в его стихи.
Второй сборник Клэра «Деревенский менестрель и другие стихотворения» вышел в конце 1821 года; он состоял большей частью из стихотворений, написанных в то время, пока готовился первый сборник. Отчасти в нем сказалось намерение автора сделать шаг навстречу тем, кто упрекал его за чрезмерную описательность, советовал «поднять глаза от земли» и «говорить о явлениях природы более философично». В результате получалось нечто более привычное, похожее на других поэтов-романтиков, например, на Вордсворта, — но все-таки не перепев; главная тематическая триада Клэра «природа — одиночество — детство» звучала у него по-своему:
По форме это сонет, причем английского, «шекспировского», канона: три четверостишия плюс двустишие. В «Деревенском менестреле» много сонетов — или, говоря осторожней, «четырнадцатистрочников», ибо в большинстве из них никакие структурные каноны не соблюдаются: на шестьдесят сонетов приходится 36 (!) различных рифменных схем. Тут есть и итальянский, и шекспировский, и спенсерианский сонеты, и всевозможные их «сплавы», есть и сонеты, состоящие просто из семи двустиший. Некоторые критики полагают, что Клэр ничего не понимал в катренах и терцетах, я же уверен, что, наоборот, перед нами плоды сознательного экспериментирования. Не о таком ли «расковывании», «освобождении» сонета мечтал Китс: