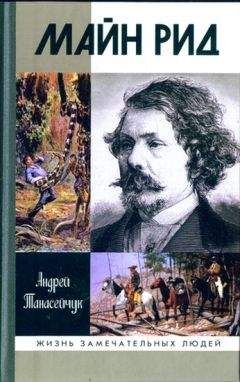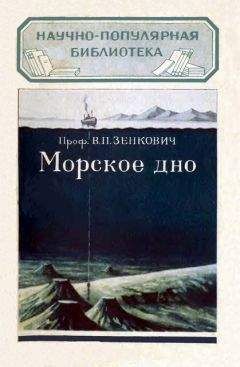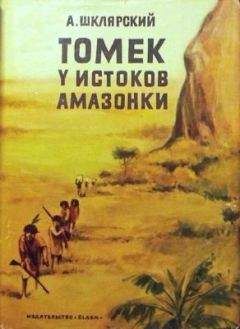Василий Головнин - Путешествия вокруг света
Долго я лежал, можно сказать, почти в беспамятстве, пока не обратил на себя моего внимания стоявший у окна человек, который делал мне знаки, чтоб я подошел к нему. Когда я исполнил его желание, он подал мне сквозь решетку два небольших сладких пирожка и показывал знаками, чтоб я съел их поскорее, объясняя, что если другие это увидят, то ему будет дурно. Мне тогда всякая пища была противна, но чтоб не огорчить его, я с некоторым усилием проглотил пирожки. Тогда он меня оставил с веселым видом, обещая, что и вперед будет приносить. Я благодарил его, как мог, удивляясь, что человек, по наружности бывший из последнего класса в обществе, имел столько добродушия, что решился чем-нибудь утешить несчастного иностранца, подвергая себя опасности быть наказанным.
Вскоре после сего принесли мне обедать, но я не хотел есть и отослал все назад. Потом и ужинать приносили, но мне и тогда было не до еды: я то ложился на пол или на скамейку, то ходил по комнате, размышляя, нельзя ли как-нибудь уйти.
На сей конец рассматривал я внимательно строение моей тюрьмы. Она была в длину и в ширину по шесть шагов, вышиною футов восьми. От коридора отделялась деревянной решеткой из довольно толстых брусьев, в которой и двери были с замком; в стенах находились два окна с крепкими деревянными решетками снаружи и с бумажными ширмами внутри, которые я мог отодвигать и задвигать по воле, одно окно было обращено к стене какого-то строения, отстоявшей от моей стены шагах в двух, а другое к полуденной стороне ограды нашей темницы. Из этого окна я мог видеть горы, поля, часть Сангарского пролива и противоположный нам берег Японии. Подле дверей, в сторону, был небольшой чуланчик с отверстием на полу в глубокий ящик за замком, для естественных надобностей. Посреди каморки стояла деревянная скамейка такой величины, что я едва мог лежать на ней, а на полу в одной стороне постланы были три или четыре рогожки – вот и вся мебель.
Рассмотрев весь состав места моего заключения, я увидел, что с помощью одного обыкновенного ножа легко можно было перерезать в окне решетку часа в три и вылезть на двор, а пользуясь темнотой ночи, мог я также перелезть через деревянную стену и через вал. Но дело состояло в том, первое, где взять нож, когда нам и иголки в руки не давали, а второе, если б я и вышел на свободу, – куда идти одному и что после сделают японцы с несчастными моими товарищами?
К ночи принесли мне бумажное одеяло на вате, совсем новое, и большой спальный халат, также на вате, но так изношенный и перемаранный, что от него происходил несносный запах гнилью и мерзкой нечистотою. Я бросил его в угол без употребления. Во всю ночь, каждый час, кругом стены ходили обходы и стучали в трещотки,[73] а солдаты внутреннего караула также и в коридор ко мне заходили с огнем – смотрели, что я делал. Рано поутру, когда еще вокруг была глубокая тишина, вдруг поразили мой слух русские слова. В ту же секунду, вскочив со скамейки и подошед к окну, обращенному к стене ближнего строения, услышал я, что там разговаривали Мур со Шкаевым. Нечаянное это открытие чрезвычайно меня обрадовало.
Я нетерпеливо желал открыть товарищам моим о моем с ними соседстве, но не смел на это отважиться, опасаясь, чтоб разговоры мои не причинили для всех нас вредных последствий. Между тем караульные и работники, вставши, начали приниматься за свои дела, и наступивший шум заглушил и разговоры их. Тут принесли мне теплой и холодной воды умываться, отперли дверь, а когда я умылся, опять заперли; потом приносили завтракать, но я все еще не мог ничего есть.
Около половины дня пришел ко мне в коридор один из чиновников здешнего города. С ним были вновь определенный к нам переводчик курильского языка,[74] человек лет под пятьдесят, лекарь[75] и наш Алексей. Они стояли в коридоре и говорили со мною сквозь решетку. Чиновник спрашивал, здоров ли я, и, указывая на лекаря, велел мне объявить, что он прислан из Мацмая тамошним губернатором нарочно с тем, чтоб иметь попечение о нашем здоровье. Пока японцы при сем случае разговаривали между собою, я успел сделать несколько вопросов Алексею и узнал от него, что Хлебников заключен с Симоновым, Макаров с Васильевым, а он отдельно, как я. Алексей прибавил еще, что у них каморки очень дурные: темные, совсем без окон и крайне нечисты.
В полдень принесли мне обед, но я отказался от еды. Караульный отпер дверь и, проворчав что-то с сердцем, велел кушанье у меня оставить и запер дверь.
Под вечер опять пришел ко мне тот же чиновник с переводчиком Вехарою и с Алексеем для объявления, что начальник города, полагая, что мне скучно быть одному, велел спросить меня, кого из матросов я желаю иметь при себе. На ответ мой, что они для меня все равны,[76] он сказал, чтоб я непременно сам выбрал, кого мне угодно, ибо таково есть желание их градоначальника. Я сказал, что они могут со мною быть по очереди, и начал с Макарова, которого в ту же минуту перевели ко мне. Я уговаривал Алексея, чтобы он попросил японцев поместить его с Васильевым на место Макарова; но он на это не согласился, и это заставило меня очень сомневаться в его к нам расположении.
При сем случае я узнал, что чиновник этот первый в городе по главном начальнике. Я спросил его, всегда ли японцы думают нас так содержать, как теперь. «Нет, – отвечал он, – после вы все будете жить вместе, а потом отпустят вас в свое отечество». «Скоро ли сведут нас в одно место?» «Не скоро еще», – отвечал он. Люди в подобном нашему положении всякое слово берут на замечание и толкуют: если бы он сказал скоро, то я почел бы речи его одними пустыми утешениями, но в этом случае я поверил ему и несколько успокоился.
Когда японцы нас оставили, я обратился к Макарову. Он чрезвычайно удивлялся приятности моего жилища; с большим удовольствием смотрел на предметы, которые можно было видеть из моего окна. Клетка моя казалась ему раем против тех, в которых были заключены Хлебников, Симонов, Васильев и Алексей и откуда его перевели ко мне. Описание их жилища навело на меня ужас: они были заперты в небольших клетках, сделанных из весьма толстых брусьев и поставленных одна подле другой, посреди огромного сарая, так что клетки эти были окружены со всех сторон коридорами; вход же в них составляли не двери, а отверстия, столь низкие, что должно было вползать в них. Солнце никогда к ним не заглядывало, и у них господствовала почти беспрестанная темнота.
Обнадеживание японского чиновника и разговоры с Макаровым несколько смягчили грусть мою, и за ужином стал я в первый еще раз есть в Хакодате, и поел исправно, несмотря на то, что здесь стол наш был весьма дурен и совсем не такой, как в дороге.[77] Вечером принесли нам по одной круглой подушке, похожей на те, какие у нас бывают на софах; наволочки были бумажные, а внутри шелуха конопляного семени.
10 августа, еще поутру, переводчик Кумаджеро известил меня, что начальник города желает сегодня видеть всех нас и что нас к нему поведут после обеда. В назначенное время нас вывели на двор, одного подле другого, обвязав каждого около пояса веревкою, за конец которой держал работник, но рук уже совсем не вязали.
Нас вели очень медленно, почти через весь город, по одной улице, в которой все дома были наполнены зрителями. Тогда в первый раз мы заметили, что у них почти во всех домах были лавки со множеством разных товаров. С улицы поворотили мы влево на гору к замку, обведенному земляным валом и палисадом, воротами вошли мы на большой двор, где стояла, против самых ворот, медная пушка на станке и двух колесах, весьма дурно сделанных. С этого двора прошли мы небольшим переулком на другой двор, где находились в ружье несколько человек императорских солдат.
Нас привели в небольшой закоулок между двумя строениями и посадили троих офицеров на скамейку, а матросов и Алексея на рогожи, по земле разостланные. Тут велено нам было дожидаться.
Мы дожидались более часа. Наконец, в окно ближнего к нам строения назвали меня по имени: капитан Головнин (но японцы фамилию мою произносили почти как Ховарин) – и велели ввести. Два караульных солдата, идучи у меня по обеим сторонам, подвели меня к большим воротам и, впустив в обширную залу, опять их затворили, а там тотчас меня приняли другие.
Здание, в которое я вошел, походило одной половиной своей не столько на залу, сколько на сарай, не имея ни потолка, ни пола. В ближней половине его к воротам, вместо досок, на земле насыпаны были мелкие каменья; в другой же половине пол от земли возвышался фута на три; на нем были постланы соломенные, весьма чисто сделанные маты. Вся же эта зала величиной была сажен восьми или десяти в длину и в ширину, а вышиною футов восемнадцати и от других комнат отделялась изрядно расписанными подвижными ширмами. Окон было два или три, со вставленными в них деревянными решетками, а вместо стекол задвигались они бумажными ширмами, сквозь которые проходил тусклый, унылый свет. На правой стороне, подле возвышенного места, вышиною фута в четыре от земли, во всю стену развешаны были железа для кования преступников, веревки и разные инструменты наказания; других же никаких украшений не было. С первого взгляда на это здание подумал я, что это должно быть место для пыток; да и всякий на моем месте делал бы подобное заключение: так страшен был его вид.