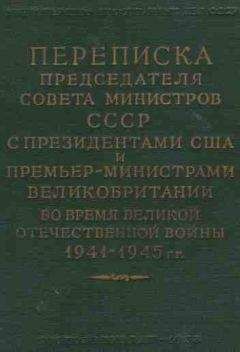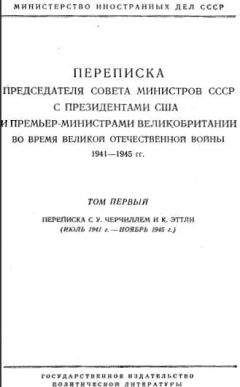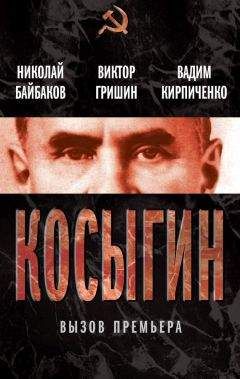Владимир Санин - Одержимый
– Слышал.
– Паша, ты ужасно смешной! – Инна засмеялась. – Родной Монах не узнает.
– Конечно, смешной, мы очень веселились ночью.
– Весь поселок ходуном ходит. – Инна поежилась. – Здесь такое творилось, жены, дети…
– Все живы, и слава богу. Тебе пора.
– Да, пора. – Инна встала и подошла ко мне. – Ничего, если я пока у нас… у тебя поживу?
– Ключи у Гриши, – сказал я. – Монах обрадуется.
– А ты?
– Обязательно сейчас отвечать?
– Мы с тобой, – с горечью сказала Инна, – два стареющих дурака. Будь здоров, береги себя.
Она распахнула шубку, прижала мою голову к груди и быстро вышла из каюты.
Едва я оделся и умылся, как пришел Баландин.
– Ну и видик у вас, Паша!.. Впрочем, извините, я повторяюсь. Долг платежом красен, прихватил вам с завтрака бутерброды. Ба, пирог, и какой – яблочный! Прекрасная фея принесла?
Глаза Баландина пылали неутолимым любопытством.
– Угощайтесь, Илья Михалыч.
Я втихомолку чертыхнулся, беседа с Баландиным никак не входила в мои планы: каждая жилка во мне трепыхалась, я жаждал разобраться в своих ощущениях. Все-таки в каждом человеке дремлет скрытый эгоцентрист, который время от времени пробуждается, чтобы проделать «восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Моя нервная система оказалась не подготовленной к событиям минувших суток, по ней слишком энергично били, а когда на меня пахнуло давно забытым Инниным теплом, я и вовсе готов был зареветь белухой.
– Спасибо, не откажусь. – Баландин отрезал кусок, впился в него зубами и удовлетворенно проурчал: – Вкуснейший! Паша, вы видите перед собой жалкого чревоугодника. Я с детства не могу пройти равнодушно мимо кондитерской, я делаю перед ней стойку, как голодный кот перед тарелкой с жареной рыбой. Можно еще малюсенький кусочек?
– Сколько хотите.
Я подсел к столу. Инна всегда мастерски пекла, на ее пироги к нам сбегалась орава приятелей. Как она ушла, я и позабыл про духовку – заржавела, наверное.
– Паша, – Баландин все-таки не выдержал, – в столовой команды знают все. Верно, что эта прекрасная фея ваша супруга?
– Вы задали мне чрезвычайно трудный вопрос.
– И я его снимаю! – воскликнул Баландин. – В знак благодарности за пирог докладываю свежую сплетню: наши вдохновители и организаторы напоследок слегка поцапались. Корсаков хотел подбить итоги на берегу, а Чернышев заупрямился – начальство, мол, нагрянет, шумиху устроит – и выволок нас заседать в море.
– Как подбить итоги? – поразился я. – Ведь мы до конца февраля…
– Ваши сведения устарели. Пока вы сладко спали, Корсаков связался по междугородному телефону с кем-то из министерства и получил санкцию сворачивать экспедицию.
– Но почему?
– Все ломают голову. Видимо, у него свои соображения.
– И Чернышев согласился?
– С чрезвычайной охотой.
– А вы?.. А Митя и Алесь?
– Что касается меня… – Баландин пожевал губами, как-то поскучнел. – Мне чуточку надоело, Паша, и немножко стыдно: едва успеваем набрать лед, как со всех ног мчимся обратно в бухту; даже экипаж над нами посмеивается – не замечали? Кажется, Митя и Алесь испытывают подобные чувства. А я, знаете ли, давно отвык быть пешкой в чужой игре, мне это, – Баландин усмехнулся, – вроде бы и не по чину. Зато вы – на коне! Я так и вижу газетную полосу с броским заголовком: «За миг до оверкиля»… Паша, я не могу забыть этого молодого капитана, почти что юношу; когда он пришел к нам завтракать, Чернышев сказал: «А у тебя, Васек, волосы того… обледенели». Таких юных седых стариков я видел только на фронте.
Из динамика послышался грустный голос Гриши Букина: «Научный состав просят собраться в салоне».
– Такой славный мальчик, а страдает «комплексом Отелло», – Баландин улыбнулся, – из-за кого? Смешливой глупышки! Даже Достоевский с его нечеловеческим гением здесь не разобрался бы. Пойдемте?
– Милости прошу к нашему шалашу!
Корсаков встречал нас, как хлебосольный хозяин: на столе, покрытом белой скатертью, лежали конфеты и пирожные, а на серванте – я даже не поверил своим глазам – в окружении рюмок открыто, со спокойной наглостью стояла запретная бутылка коньяка.
– Настоящий банкет! – Чернышев потирал руки. – Разгул! Конфеты-то какие, уж не с ромом ли, Виктор Сергеич? Мои бесенята такие любят… – он зажмурил глаза, – больше геометрии.
– Намек понят и принят к сведению, – заулыбался Корсаков. – А эти все-таки для нас, подсластить горечь расставания.
– Именно, именно горечь! – подхватил Чернышев. – Но зато ведь хорошо поработали, правда, Виктор Сергеич? Пусть кинет в меня камень, кто скажет, что плохо! Но как хорошо сказано – горечь… Будто что-то от себя отрываешь, правда, Паша?
Чернышев успел переодеться, на нем был растерзанный пиджак, в котором он спускался в машину, на ногах неизменные шлепанцы, а в глазах – тысяча чертей. Я не верил ни единому его слову. Напрягся и Корсаков.
– По-моему, неплохо, – сдержанно сказал он. – Никита, нашу с тобой заварку Алексей Архипович все равно забракует, доставай кофе – и не скупись!
Крупный, благоуханный, в роскошной бархатной куртке, в каких ходят именитые актеры, Корсаков был удивительно хорош собой. «Красив, собака, – с завистью подумал я, – и не такие, как Зинка, могут ошалеть».
Все хохотали, и громче всех Корсаков. Проклиная свою идиотскую привычку, я извинился.
– Что я говорил? – торжествовал Чернышев. – Представляете, Виктор Сергеич, если он в глаза правду-матку режет, что же тогда про нас с вами в газету тиснет?
– Спасибо за комплимент, Павел Георгиевич, и приступим к работе, – сказал Корсаков. – Рассаживайтесь, друзья. Кофе сразу или немного погодя?
– Лучше сразу, – попросил Ерофеев. – Мы и двух часов не спали, Алесь – тот за завтраком храпел с бутербродом в зубах.
– Молодежь… – проворчал Баландин. – В ваши годы я спал разве что на собраниях.
За кофе Чернышев веселил нас своими историями.
– Никогда не понимал нытиков, которые жалуются на бессонницу, я голову на подушку положил – и отвалился, – хвастался он. – И вот один раз селедки шла пропасть, таскать и сдавать не успевали, уста-а-ли, – с ног валились. Набили селедкой плавбазу, ушла, упал я на койку, в чем был, только глаза закрыл – бац под ухом! Снова закрыл – бац, бац! И скрежет по всей каюте. Качка была порядочная, забыл что-то, думаю. Встал, зажег свет, закрепил все, что плохо лежало, улегся – бац! Я туда, сюда, ничего не пойму, будто домовой расшалился – стучит, скребет. Поворочался с полчаса, поднял Птаху, тот навострил локаторы, выбежал и за шиворот приволок моториста Шевчука: «Твоя работа?» Тот клялся и божился, что ведать ничего не ведает, а спать охота, понял, что не отпустят, – признался: шарик от подшипника за переборку мне подсунул, отомстил, сукин сын: я ему премию срезал за пьянку.