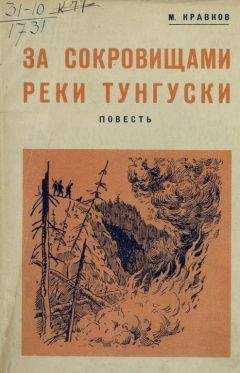Максимилиан Кравков - Зашифрованный план (Повести, рассказы)
Потом опять, с пробелами, дорога. Осталась в памяти изба-заимка. Лежу я на кровати, за занавеской. На табурете, против, сидит бабка. Нога за ногу заложит и дымит махорочной цигаркой. Она — мой доктор. В доме никого: все мужики на промысле. Со мною старый ветеран Соболька. Он длинный, остроухий и серьезный. Подходит важно к моей кровати, кладет с подушкой рядом седую морду, и кажется, вот-вот начнет рассказывать о прошлых годах. Так тянется подернутое зимним деревенским забытьём больное время. За эти дни я узнаю о гибели Максима, убитого в какой-то схватке. Вот почему никто за нами не приехал. Меня в тайге нашли охотники случайно.
И вечерами, когда за окнами гудит метель, в избе горит лучина, вполголоса поют о чем-то собравшиеся бабы, я вспоминаю пламенное солнце, синий блеск взволнованной реки и беспредельную свободу таежных дебрей…
ШАМАНСКИЙ ОСТРОВ
Звали его Михаил, по прозвищу Тоболяк, потому что пришел он сюда из Тобольской губернии. Явился с улыбкой и полгорницы у вдовы солдатки Дарьи занял широченными плечами.
— Ишь, лешак, что печка!.. — восхищенно оценила баба. И на жизненном пути у Михайлы задымился новый семейный очаг.
Сейчас, как всегда, невзначай, Тоболяк собирался в тайгу.
— Идол ты окаянный, — убивалась Дарья, — люди добрые хлеб убирать, а он в лесище тянет!..
Не могла привыкнуть к причудам Тоболяковым. А жили вместе уж долго. С того самого времени, как задрал медведь у поскотины дядю Акима.
В горы успели удвинуться глубоко бродячие карагасы[9], еланями заплешивела вековечная целина, поселок у грани Саян разросся до двенадцати изб и недавно дождался своего сельсовета. А Михайла, как был бродягой, таким и остался.
Но нравилось ему даже, что баба за это ругает.
— Линия ваша такая, — резонно объяснял он, допивая чай, — одним словом — контроль…
— Пес ты, — плюнула Дарья и, совсем осерчав, обернулась к скрипнувшей двери.
— Входи, входи, жиган!.. — закричала она. — Дожидается тебя дружок любезный… Шатуны разнесчастные!.. — И ушла.
В горницу осторожно шагнул Петрович, уголовный когда-то поселенец, и картуз из приличия снял. Постоял, покосился на дверь и скромно сел. Тоболяк и глаз не поднял.
В избе было душно, сытно пахло вином, хлебом и медом.
Петрович вздохнул, шевельнул усами и умильно начал:
— Михайла… А Михайла?..
— Ну?
— В тайгу собираешься?
— Ну!..
— Меня-то… возьмешь? — совсем просительно, виновато даже замолвил он.
Тоболяк зевнул широко и сочно, прикрыл распухшей лапой рот.
— Мешки у бабы спроси под сухарь.
И в дверь, вдогонку:
— Кайлу не забудь!
Тайга.
Едут молча, один за одним. Земляной здесь воздух и гретый, наполнен медовыми запахами трав и студью ключей подземных.
Тоболяк впереди.
Заботы все дома остались — легкие мысли дорогой приходят.
Пихта у него — веретено зеленое — в небесную синь уткнулась, а ель у подошвы — как сапог великана с усатыми шпорами сучьев. Ишь, как вертит наверху мошкара — словно пепел от солнца осыпается…
Выползла тропка из сосен, заметалась бросками на спуск — потонула внизу, в сочных травниках. Паром желтым текут со встречных склонов воскресные толпы цветов.
Кручей, щебенкой пополз горбатый подъем, натужней и чаще дышат кони, и тайга за спиной колышется пихтами, точно перьями стрел в колчане.
Встретился горный ветер, освежил лицо, вскинул гриву у лошади — хорошо!
Привстал в стременах Тоболяк — кругло выплывает вдали сахарный белок, словно лебедь из тумана подымается на горизонте.
— Э-ей, Петрович! Чего-о засну-ул?.. — во всю глотку заорал, чтобы грудь прочистить.
Прянули уши у Карьки и ухабами покатилось по пади:
— У-у-уллл…
— Заку-урим, хозя-ин!.. — точно с берега другого, отзывается Петрович.
— Рубеж наш…
Перелом хребта. Скелет иссохшей лиственки скрипит над обрывом, и мотаются на сучках полинялые ленточки.
— Эка, навешали карагасы, — усмехнулся Михайла, — а ну, Петрович, сыми-ка милой в косу на заплетку!
— Ловок… — недовольно бурчит Петрович, — чтоб шаманство их ко мне привязалось!..
— С-сукин сын, — хохочет Тоболяк, — ты ж в чертей не веришь?..
Петрович совсем омрачился, плюнул даже:
— Тайга, а такую дурость порет…
И крикнул с сердцем:
— Куда попер-то?..
— И то верно, — согласился Тоболяк и потянул коня, слезая, — с тобой пропрешь…
И вошел в кусты.
Хрустели кони травой и позванивали удилами. Над горами замер орел, и, привычно, в седле дожидался Петрович. Но был он другой, не такой, как в деревне. Там был Петрович вечный бобыль, пьяница и на руку нечист, здесь он вольный охотник, в одних правах со всеми, с зверями, с деревьями и с человеком.
Всегда шатался с Михайлой на промыслы и всегда мечтал возвратиться богатым. Недаром был приискателем. Много раз зароки давал поспокойней найти компаньона — уж больно рисковый был Тоболяк. Но обоих запойно тянула тайга — и это вязало.
А сегодня даже не знал, куда и зачем они едут, почему не взял с собою Михайла собаку.
Закивала зелеными крыльями ель: продрался Тоболяк через чащу — в каждой руке по винтовке.
— Это вот дело… — похвалил Петрович. Вынул затвор и глаз свой кошачий к стволине приставил: нет ли где ржавчины, часом.
— Орлы мы теперь, Михайла, голой рукой не возьмешь!
Дробно топчут кони отлогий спуск, прыгает на рыси Тоболякова спина. Под обрывом седыми когтями роет река в гранитном корыте. Свернула под кедры дорожка, перебилась колодником. В обнимку запало древесное старичье, трухлеет тихонько в затхлости грибной и тенях.
Гулко вдали загремела собака, другая. Конь зашмыгал внимательным ухом.
Зацепился за кедры длинный лоскут дыма — смолевый и едкий. На полянке, как поп лесной в берестяной рясе, торчит юрта. Из-за дыма, застлавшего траву, идет карагас Николай Тутэй встречать знакомых.
Узнал издалека, и морщинками радости зарябило его лицо.
Гортанно сказал:
— Здравствуй, друг, — И мягкую, прямую ладонь тычет Тоболяку…
Желтые свечи заката горят по пихтовым гривам. От этого за горой бледный пожар, от этого крепче молчит потонувшая в вечере тайга, и птичка где-то бойко швыряет бусы стеклянно-звонкой песни.
Жарко бушует костер и дымом кроет поляну. В дымных разрывах видно юрту. Она, как вулкан, светится сверху скрытым огнем, и в глубинах ее поет карагаска.
Петрович спит, а Тутэй и Михайла сидят у огня. Карагас подымает опустевшую бутылку и косыми насечками глаз рассматривает играющее на огне стекло…