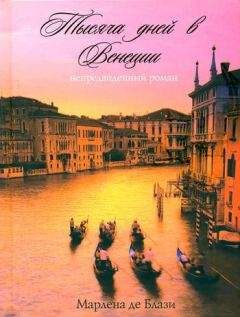Марлена де Блази - Тысяча дней в Тоскане. Приключение с горчинкой
— А ты не знаешь, почему так, почему большинство людей этого лишены?
— Может быть, потому, что в сумасшедшем поиске смысла жизни человек меньше всего думает о простоте. У Матильды с Жераром было так много, потому что у них было так мало.
Время подходило к двенадцати, и я уже поняла, что, обещая поговорить позже, Барлоццо имел в виду не этот вечер. Мы поднялись наверх, прихватив с собой грелку-«священника». Этот шедевр сельского кузнеца представлял собой нечто вроде фонаря, в который засыпалась горячая зола. Фонарь висел на деревянной дуге, укрепленной на деревянном основании. Все это сооружение устанавливалось под одеяло, создавая основательный горб на территории кровати, и за двадцать минут согревало ее до готовности принять нас: дрожащего венецианского принца и меня.
Я переставила «священника» на пол и забралась в согретую постель рядом с Фернандо, который с удовольствием притянул меня к себе и предупредил:
— Только смотри, этой ночью меня не открывай. Не люблю, когда ты меня открываешь, стягиваешь все одеяло на себя.
На языке Фернадо «открывать» означало «раскрывать». Честно говоря, в этом контексте я предпочитала именно «открывать». Там, где сходятся две культуры, открытиям нет конца.
Сколько сражений разыгралось на поле этой кровати, между холмами и складками простыней? Сколько крошек просыпалось под одеяло от наших маленьких ночных пиршеств? Постель пахла пролитыми капельками красного вина и нами. Есть в жизни вещи, о которых молчат в других местах и говорят только в постели. Я обнимала принца, и принц обнимал меня. Он распустил шнурок, поддерживавший складки балдахина, и вокруг нас упали тяжелые красные занавеси. Мы очутились в освещенном свечой шатре, в облаке, пролетающем под луной. Он развязал завязки моей ночной рубахи, приподнялся на локте, гладя меня пальцами.
Потом я сказала ему совсем тихо, шепотом, едва слышным за потрескиванием фитиля свечи:
— Напомни мне поспрашивать, где в округе можно раз в месяц раздобыть ослиное молоко.
— Jesu!
11. Декабрь поселился в конюшне
— После операции прошло уже две недели, и скоро она начнет курсы послеоперационной терапии в Перуджийской больнице и во Флоренции. Врачи говорят, процесс остановлен, можно ожидать полного выздоровления. А пока ее друзья из Читта делла Пьевы настояли, чтобы она осталась у них. Они смогут о ней позаботиться, возить на процедуры, консультироваться с врачами. Те люди для нее родные. И они понимают, что ей нужно уединение. Она тосканка. Одно из основных прав рожденного здесь — право встречать свою жизнь и смерть один на один.
В то утро лицо Барлоццо было как осколок гранита, разбитый и кое-как сложенный камень. Он сидел за столом и говорил о Флори. Излагал факты, все технические подробности, не оставляя места для вопросов, на которые не хотел отвечать. Я знала, что он не ответит. Я молчала и предоставила ему читать мои мысли.
— Она сама решила поберечь вас. И не только вас двоих, всю деревню. Но, конечно, кто-то из больницы рассказал кому-то, а тот рассказал кому-то еще, и очень скоро здесь тоже узнали. А кроме того, вы с Флори знакомы совсем недолго. Что такое семь или восемь месяцев? — Он оглянулся на Фернандо, ища подтверждения. — Она не хотела вас тревожить. И главное, думаю, она и подумать не могла обременить вас. — Теперь его взгляд упал только на меня, — Знаешь, ты здесь не единственная, кому трудно поверить, что кто-то тебя по-настоящему любит. Она даст вам знать, когда будет готова. А пока любите ее, как ей нужно, а не так, как вам нужно ее любить.
Князь высказал все, положил конец всяким спорам. Фернандо задал несколько обычных вопросов, и Барлоццо отвечал в двух словах, как будто время, отпущенное на разговор, уже истекло. Ясно было, что каждое его слово сверх сказанного — неохотная уступка.
«Знаешь, ты здесь не единственная, кому трудно поверить, что кто-то тебя по-настоящему любит», — повторила я в уме. И эти слова связались с другими, прежними: «Я могу дать тебе почувствовать свою любовь, но ты не можешь сделать, чтобы я чувствовала себя любимой. Никто не может. А если ты станешь слишком стараться, я взбрыкну. Я в конечном счете дикарка». До встречи с Фернандо эти слова были моей сутрой, самонаблюдением, которое я прятала в захоронке тайных болей. Может быть, я тоже тосканка. Может быть, только тосканец понимает тосканца, и потому Барлоццо понимает меня так же, как я начинаю понимать его.
— А ты? — спросила я Князя. — Ты любишь ее так, как ей нужно, или как нужно тебе?
Серебро слез плавало в его глазах, как уклейки в черной воде, а он понимал, что я еще не все сказала.
— Почему ты на ней не женился?
Спасаясь от меня, он перевел взгляд на Фернандо, который успел тоже сесть к столу.
— Почему бы нам не отложить этот разговор до другого раза? — предложил мой муж.
— Я хотел бы об этом поговорить. Сразу, как только смогу. — Князь вымученно улыбнулся, открыл дверь и ушел. Фернандо хмуро ворошил поленья. Я видела, он недоволен моими расспросами. Но прямо сейчас у меня не было сил оправдывать себя и свои поступки. Я думала о том, что, раз уж нельзя увидеть Флори и поговорить с ней, я ей напишу. Я вырвала первые несколько листков из блокнота с кожаным корешком, в котором начала делать заметки для новой книги. Я купила блокнот в Ареццо, мне понравилась шероховатая на ощупь обложка из бумаги ручной выделки и украшавшая ее Мадонна Пьеро делла Франческа в розовых, зеленых и золотых тонах. В нем я смогу записать все, что чувствую, что думаю о ней и вообще обо всем, что ей может быть интересно. Может, я никогда не отдам ей записки, честно говоря, скорее всего, не отдам, но дело не в том, прочтет ли эту книгу Флори.
Декабрь поселился в стенах конюшни. Промозглый холод и сырость глубоко проникли в душу старых камней. В доме было на десять с лишним градусов холоднее, чем на улице. Мы воевали с зимой с помощью огня, носков, горячего вина, и все это помогало, но не всегда и ненадолго. Каждое утро в предрассветных сумерках нас будил холод, вынуждавший нас, подобно горцам, двигаться или погибнуть. Вскочить и выбраться из кучи одеял в дыхание Сибири, на покрытый тончайшей изморозью пол. Даже церковные колокола звучали холодными похоронными голосами, так что казалось, будто по селению бродит замаскированная смерть. Мы поспешно одевались и начинали день. Фернандо разводил огонь, а я замешивала хлебное тесто и неслась наверх, чтобы поставить квашню между простыней и одеялом и обложить подушками — так была хоть слабая надежда, что тесто поднимется. Наша еще не остывшая постель была самым теплым местом во всем доме. Печь капризничала, нагревалась часами, а остывала в несколько минут, если в нее не поставить что-нибудь печься. Без этого весь жар исходил искрами и дымом. Понемногу огонь обогревал нижний этаж настолько, что можно было слепить из хлебного теста толстые круглые лепешки и поставить их у камина подходить во второй раз. Мы совершали зимний туалет: чистили зубы, споласкивали лица, а остальное к черту. У нас образовывалось ровно тридцать минут свободы, чтобы сбегать в бар позавтракать, пока хлеб поднимался, а печь прогревалась. Должна признать, в нашей зимней жизни были некоторые неудобства. Так или иначе, мы со скоростью вызванных по тревоге пожарных натягивали сапоги и куртки и неслись за своим капучино.