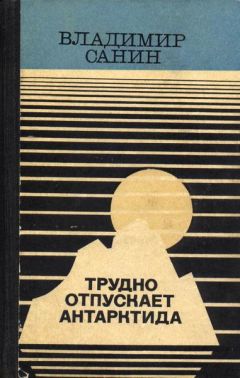Владимир Санин - Не говори ты Арктике – прощай
Кажется, все знаешь, многое видел и о многом слышал, а не перестаешь поражаться мужеству и выносливости наших полярников. Кто еще рискнул бы вести поезд по ледяному куполу Антарктиды в таких нечеловечески трудных условиях? Скажу прямо: мужество и выносливость, конечно, замечательные качества, но давно пора не делать ставку только на них. Я уже писал об этом и еще раз повторяю: за такие походы, как у Евгения Зимина в 1969 году и у Василия Харламова в 1978-м, не жаль самых высоких наград (не дали никаких — даже медалей), однако обязательно ли они нужны, эти изнурительные походы, полторы тысячи километров в один конец? Не пора ли наконец от слов перейти к делу и несколько сот тонн необходимых восточникам грузов доставлять на тяжелых транспортных самолетах? Пусть без посадки, хотя бы на сброс, на платформах и парашютах. Кстати говоря, это будет и значительно дешевле: санно-гусеничный поход — штука чрезвычайно дорогостоящая…
Возвращаюсь к Харламову. Он высок и очень силен, механик и дизелист — надежнейший из надежных, имеет звание «мастер вождения тяжелых машин». Незаменимый работник, и в общежитии он, однако, человек не простой: любит поворчать, вспыльчив, не терпит возражений, раздражается при виде не занятых делом людей, может вспыхнуть, причем иногда без достаточных причин. Никому другому на станции Сидоров бы этого не спустил, а Харламову прощает: кому многое дано, тому многое позволено. Товарищей Сидоров предупредил: когда Харламов не в духе — молчите, не возражайте, он быстро отойдет.
И все понимают, прощают — видят: для этого человека работа превыше всего, а работает он за троих. Немного смешно: Валерий Шашкин, влюбленный в своего главного, во всем ему подражает — и чуточку сутулится, и ворчит, и молчун такой же, и в работе харламовская самоотдача…
На меня, как на лицо без определенных занятий, Харламов смотрел исподлобья, не совсем понимая, на кой черт я сюда явился. Недели три он уклонялся от общения — «некогда», «как-нибудь потом», и лишь уступив настояниям своего друга Сидорова, под конец согласился «лечь на карандаш».
Харламов нужен был мне до зарезу, и вот по какой причине.
Потерпевших аварию должны были искать не только с воздуха, но и на вездеходах. Я уже упоминал, что лед в проливе, через который должны будут идти вездеходы, становится относительно прочным к середине ноября; по сюжету время действия повести было даже чуть раньше, когда лед еще ненадежен и идти через пролив рискованно.
А нам с Левой вскоре предстоит этот путь, и нужно понять, какие неожиданности возможны, тем более в полярную ночь, особенно если застигнет пурга или опустится «белая мгла», когда ничего не стоит сбиться с дороги. Здесь особенно важны детали, и Харламов — единственный на куполе человек, который знает их наперечет.
Поняв, что я не намерен копаться в его личной жизни, Харламов повеселел и стал охотно рассказывать про детали. Заранее скажу, что все они попали в повесть, а кое-что из того, о чем говорил Харламов, нам пришлось испытать на собственных шкурах.
С его слов я записал, как нужно идти через пролив по гнущемуся льду, как промерять лед, как пытаться спастись, если вездеход провалится (лед тонкий — шансы есть, а наплывет на кабину толстая льдина — «отвязывай коньки»), и прочее.
После второй беседы я сердечно поблагодарил своего консультанта, и Харламов, давно с чрезмерным вниманием разглядывавший часы, с явным облегчением ушел. Уже на пороге он все-таки пробормотал: «Никак не пойму, на кой черт тебе все это надо? Кому интересно читать про вездеходы?»
* * *13 ноября. За ночь выдули в кабине у Васи чудовищное количество чаю — прощались. Вася сказал, что, раз нас повезет Харламов, он спокоен: более смелого, но в то же время осмотрительного механика-водителя он не знает. Я тут же припомнил рассуждение Юлиана Тувима о разнице между отвагой и осторожностью. Отвага: подойти к боксеру и обругать его последними словами; осторожность: сказать боксеру то же самое по телефону. Мы много шутили, смеялись, но наш с Левой смех был жизнерадостнее — мы-то ехали домой, а Вася увидит свои любимые зеленые листочки месяцев через семь… Отпуск у Левы закончился, да и я сделал что хотел, пришла пора расставаться с куполом — страница перевернута.
Утром (теперь только по полярным часам с их специальным циферблатом и поймешь, когда утро, когда день, когда ночь) под салют ракетниц и оглушительный лай собак мы уселись в ГТТ, тяжелый вездеход, и поехали вниз, к мысу Ватутина, навстречу одному из наших интереснейших полярных приключений.
«БЕЛАЯ МГЛА»
Мне рассказывали, как один известнейший ученый-литературовед, прослышав о необъективности экзаменаторов, подсунул им самолично написанное сочинение на тему, в которой был признанным авторитетом. Он заранее потирал руки, предвкушая, как разоблачит людей, превращающих приемные экзамены в недостойный фарс. Ученый получил тройку — «за слабое раскрытие темы», причем в ходе возникшего затем скандального разбирательства не смог доказать, что раскрыл ее хотя бы на четверку: разве можно на десяти-двенадцати страницах всесторонне проанализировать творчество такого гиганта, как Лев Толстой? А об этом почему не написали? А почему упустили то?
Так что ловкий экзаменатор, задавшись подобной целью, может успешно завалить даже академика, несмотря на длинный шлейф его ученых званий и три полки написанных монографий.
Я вспоминаю этот случай, когда думаю об Арктике. «Век живи, век учись» — это про человека в Арктике сказано. Не любит она, когда люди самонадеянно полагают, что знают о ней все. Таких она экзаменует с особым пристрастием, и хоть разок, да подловит на ошибке, докажет, что полностью познать полярные широты так же невозможно, как абсолютную истину.
Из всех ловушек, которые Арктика заботливо готовит для человека, одна из простейших и в то же время опасных — заставить его заблудиться в пургу, лишить ориентировки в пространстве. Мне известны случаи, когда в пургу люди теряли силы, погибали в двух шагах от домика, — о подобном вам расскажет каждый полярник. Чаще всего это происходит с новичками, людьми, как известно, самоуверенными, молодыми и глупыми — качества, которые, будучи собраны вместе, могут оказать человеку чрезвычайно дурную услугу.
С высоты сегодняшнего дня я отчетливо вижу, что двадцать лет назад обладал этими качествами в полной мере. Таким, как я в ту пору, Арктика устраивала ловушки шутя и играя, без всякого напряжения извилин. Случилось это на острове Врангеля, когда полярного опыта у меня было не больше, чем у новорожденного щенка. Гостил я на полярной станции в бухте Роджерса, план по сбору материалов выполнил и ждал весточки от летчиков, которые обещали перебросить меня на мыс Шмидта. Весточка запаздывала, и, гонимый нетерпением, я решил пробраться в поселок и позвонить с почты на Сомнительную, где находился аэропорт острова. До поселка было рукой подать, меньше километра, и слово «пробраться» я употребляю лишь потому, что начиналась пурга. Меня, однако, никто не удерживал, мело еще не очень сильно, метров десять в секунду, да и путь к поселку был простой — прямо вдоль берега и затем наверх, в гору. Я пошел на почту, за час отзвонился, вышел на улицу и остановился, слегка озадаченный: ветер резко усилился и видимость исчезла. Стою, озадаченный, и думаю, что предпринять — честно струсить или проявить мужество. Происходи это сегодня, я наверняка бы струсил, то есть вернулся на почту, чтобы подождать ослабления ветра или хотя бы попутчика; но тогда, по зрелому размышлению (я полагал, что размышление зрелое), эта малодушная мысль была отброшена. Подумаешь, пурга, не видали мы пурги (в кино). Ну метет, ну ничего не видно, но дорогу-то я знаю! Прямо от крыльца направо, к спуску с горы — это метров двести, а там налево и вдоль берега к станции — элементарно. Так я и поступил — с песней (мысленной) пошел к спуску, точнее, не пошел, а побрел, то и дело оборачиваясь спиной к ветру (лучшего способа потерять направление еще не придумано). Минут через десять я понял, что со спуском что-то произошло — он исчез; поразмыслив, я пришел к выводу, что, скорее всего, спуск там, где он должен быть, а вот где нахожусь я — одному арктическому богу известно. Пораскинув мозгами, я принял мудрое решение — возвратиться обратно на почту, и побрел по своим следам, но шагов через двадцать и они исчезли — замело. Тут-то я и сообразил, что намертво заблудился, обозвал себя первостатейным ослом и побрел наугад. А пурга визжала, сбивала с ног, и хотя злость на собственную глупость придавала дополнительные силы, я вскоре устал настолько, что с колоссальным трудом выдергивал унты из снега. И кто знает, чем бы закончилась эта нелепая история, если бы я вдруг не шагнул в пустоту и кубарем полетел с горы вниз. Это был первый и, возможно, последний раз в жизни, когда падение, и довольно болезненное, доставило мне огромное удовлетворение: теперь, оказавшись у берега, я точно знал, что к станции нужно идти налево, что и требовалось доказать. Ввалился я в домик радистов, молодых супругов Анатолия и Марии Мокеевых, уселся на пол и поинтересовался, с какой силой метет. Оказалось, около тридцати метров в секунду — вполне достаточно, чтобы сбить спесь не только с несмышленыша-новичка.