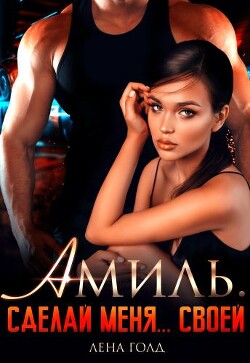Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды - Кружков Григорий Михайлович
Это были мои первые английские друзья, притом самые милые и самые верные. Розамунда собирала в Москве материалы для своей книги «Вагнер в России». Джерард изучал русскую музыку XX века, в частности, ему удалось восстановить музыку балета Шостаковича 1930 года «Условно убитый». Рози тоже прекрасно разбиралась в музыке, а еще она была членом университетской команды гребцов (на восьмерке).

Ко мне она почему-то относилась как к младшему брату и учила организованности и правильным привычкам. Помню, отучила меня есть бананы на улице: «Фи, Гриша, ты же не в Нью-Йорке!» В любую погоду она ходила нараспашку.
— Вы, русские, совершенно не разбираетесь в правильном питании, — говорила Рози, сделав себе на обед бутерброд с сыром и запивая его стаканом чая без сахара.
Джерард прекрасно знал английскую поэзию — до музыкального получил ещё и филологическое образование. Из русских поэтов он особенно увлекся Хармсом. Смуглый, с густыми темными волосами и бородой (шотландское, кельтское наследство), он выглядел, как я понимаю, немного экзотично. Однажды он приехал к нам озадаченный.
— Марина, Гриша, объясните мне, что значит «жидовая морда»?
Он произнес эти слова нараспев и с явным удовольствием.
— Чего, чего?
— Я ехал в трамвае, и мне там сказали: «жидовая морда». Что это такое?

В его характере чувствовалась веселая театральность. Это проявлялось и в музыке; например, его сочинение для двенадцати барабанов, которое он написал специально для ансамбля Марка Пекарского, его музыкальные сцены по Даниилу Хармсу «Из дома вышел человек». Наверное, это семейное; его брат Саймон Макберни — известный актер и режиссер, мы с ним вскоре познакомились в Лондоне и даже были в основанном им театре «Complicité» («Соучастие») на спектакле «Визит старой дамы», в котором он играл главную мужскую роль. А спектакль по Хармсу до сих пор в репертуаре театра.
Возможно, Джерард полюбил Хармса, потому что почувствовал английские корни его эксцентрики, его подспудной лирики.
Это типичная английская баллада. I went out to the hazel wood…
Интересно, что Рози и Джерард представляли два главных соперничающих университета Англии — Оксфордский и Кембриджский. Джерард закончил курс английской литературы в Кембридже, он был сыном археолога, профессора Королевского колледжа (King’s College), к тому времени уже покойного. Теперь Джерард жил в Лондоне; но однажды он привез нас в Кембридж показать город, познакомил с матерью, устроил на ночь в своей комнате. Сам он отправился спать на чердак, заставленный какой-то пыльной рухлядью.
— А почему бы тебе не лечь в гостиной, тут просторно и удобно? — спросил я.
— Мы, англичане, никогда не спим в гостиной, она не для этого предназначена, — ответил Джерард и посмотрел на нас, как на дикарей из амазонских джунглей.
Наутро он облекся в профессорскую мантию отца и повел нас в университетскую Капеллу слушать хор мальчиков. Уточню: слушать самый знаменитый в Англии хор мальчиков в знаменитую Капеллу Королевского колледжа (King’s College Chapel), которая есть на всех открытках Кембриджа. Она была построена специально для преподавателей колледжа; по старинному установлению, сыновья скончавшихся профессоров колледжа, обязательно в отцовской мантии, имеют право сидеть на привилегированных местах, а также приводить с собой одного или двух гостей. Мы сидели в «хорах» (choirs), в нескольких шагах от ангельски поющих мальчиков, на старинных скамьях со спинками, украшенными чудесной резьбой. Было немного страшно, что на этой самой скамье, где я сейчас еложу задницей, могли сидеть Френсис Бэкон, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин или Уильям Вордсворт; все они учились в Королевском колледже.
Невольно припомнился мне сонет Вордсворта, переведенный незадолго до того. Уж как-то так выходит, что каждое мое путешествие по Англии (и не только) превращается в литературное паломничество.
Потом мы поехали в Или, маленький городок в двадцати километрах от Кембриджа, где находится один из самых старых и знаменитых готических соборов Англии. Казалось, в этот день мы получили такие впечатления, что все остальное должно было померкнуть. Получилось, однако, не так. Войдя сквозь старинную дубовую дверь притвора и сделав несколько шагов внутрь, под своды грандиозного нефа, я остановился ошеломленный, застигнутый врасплох. Меня будто вознесло к этому головокружительно далекому куполу. Я стоял, как внезапно проснувшийся или заново рожденный. Ни один из виденных потом знаменитых храмов — ни Кёльнский собор, ни Сан-Пьетро в Риме, ни Дуомо во Флоренции — уже не производил на меня такого действия.
Кто же был архитектором этого собора — тем, кто сотворил его в своем воображении и потом перенес на листы чертежа? Как он сумел подчинить своей дирижерской палочке десятки строителей, плотников, камнерезов, вовлек их в свой замысел, в единый оркестр созидания? Был ли это местный талант, по счастливому случаю сделавшийся учеником архитектора, а потом и самостоятельным мастером? Или это был приглашенный из Франции опытный зодчий? Имя его не сохранилось. В отличие от имен бывших при сём аббатов и епископов.
Джерард жил в Ислингтоне, прямо на север, если идти от Сити. Когда-то это была окраина, пригород, сейчас — тихий район недалеко от центра. В дни матчей «Арсенала» по соседним улицам россыпью, то гуще, то реже, брели болельщики на стадион «Хайбери», а потом возвращались после матча; но это не нарушало ощущения уюта и мира. (Сейчас на месте снесенного «Хайбери» жилой комплекс, а у «Арсенала» теперь другой стадион, построенный богатенькими спонсорами из Арабских Эмиратов.)
Это была типичная лондонская квартира — трехэтажная, с отдельным выходом на улицу. Пару раз мы с Мариной в ней ночевали. Все в ней было устроено традиционно, по-английски; в ванной никакого душа, конечно, мыло после омовения полагалось смывать водой из кувшина, в которой смешивали холодную и горячую воду.
У Джерарда была большая библиотека поэзии. Однажды он снял с полки и подарил мне свою любимую книгу «Поэты 1890-х годов», которых я почти не знал. Это были английские декаденты, современники Верлена и Малларме, друзья Йейтса по «Клубу рифмачей»; в своих воспоминаниях он называл их «трагическим поколением». Эрнст Даусон, английский Верлен, умер, не дожив до тридцати, — как и его друг Лайонел Джонсон, превративший день в ночь, а ночь в день. Конечно, книга была подарена мне не просто так, а с надеждой, что из этого выйдет что-нибудь путное. И действительно, я потом перевел немало стихов оттуда. Особенно мне нравился Эрнст Даусон. Например, вот это — «Даме, которая задавала глупые вопросы»: