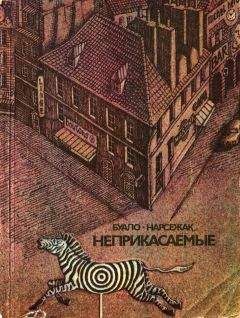Пьер Гэсо - Священный лес
В который раз я снова наталкиваюсь на эту склонность к мистификации ради мистификации, к культу тайны ради тайны.
* * *
Я встаю разбитый, в голове тяжесть. Рядом со мной лениво потягивается Жан. Мы почти не сомкнули глаз. Беспрестанное погромыхивание погремушек не прекращалось всю ночь.
Дверь открывается. В комнату, согнувшись, с распухшим лицом и безжизненным взглядом входит Зэзэ. Он дрожит от холода или от озноба. За ним с сокрушенным видом следует Вуане.
— Они ему подсунули гри-гри, — говорит он, указывая на старика.
Зэзэ осторожпо приподымает свое старое залатанное бубу и показывает огромный нарыв в паху. Он думает, что враги его отравили.
— Это пустяки, — говорю я, немного волнуясь. — Его можно вылечить.
— Нет, — упорствует Вуане. — Это плохой гри-гри, с ним ничего не поделаешь.
Не обращая внимания на это заявление, Жан дает Зэзэ две таблетки ауреомицина и советует ему лечь поспать. Он его разбудит, когда надо будет принять следующую дозу.
На площади с первыми лучами солнца установилась тишина. Только три-четыре старухи, сидя на корточках перед хижиной, продолжают трясти своими калебасами. Уставшие танцовщицы спят.
Между хижинами прогуливаются мужчины, закутанные, как в тоги, в одеяла прямо на голое тело. Болтая, они ковыряют в зубах палочками из белой волокнистой древесины.
Синеватый дым медленно поднимается в сыром воздухе над пропитанными дождем соломенными крышами.
Несколько женщин раскладывают костры для варки пищи.
Вернувшись в комнату, мы собираемся выпить по стакану красного вина. Бесшумно открывается дверь. Жертвенная жена проскальзывает в комнату. С застывшим лицом она подходит к столу, протягивает руку, берет стакан. Я наливаю. Она пьет, бормочет бесцветным голосом «мамайо…» и выходит.
Это был первый и последний раз за время нашего пребывания у Коли, когда мы слышали ее голос.
После полудня в деревне появляется тамтам Орапосу. Толпа спешит навстречу пяти мужчинам, которые под ритмичные звуки висящих под мышками барабанов движутся к хижине Коли. Их окружают женщины, энергичными жестами выражающие свой протест. Оркестр калебас смолкает, и старухи начинают ожесточенно препираться. Все эти дни отведены под женский праздник. Что нужно здесь непрошеным гостям?
Мы стоим на пороге хижины рядом с Коли, кивающим головой в знак удовольствия, и слушаем тамтам. Его ритм напоминает нам лучших ударников джаза.
Вуане сияет. Нигде тамтамы не говорят лучше, чем у тома.
Но ярость женщин не утихает.
Великодушный Коли делает музыкантам знак остановиться и объявляет, что они будут играть вечером; пока же они могут устраиваться в одной из хижин, отведенных для гостей.
* * *
На верхушке длинного шеста, установленного перед хижиной, мы примостили лампу. Вокруг нее вьется рой ночных насекомых. Коли сидит в своем складном кресле впереди теснящейся большим полукругом толпы зрителей.
Жан в хижине включает магнитофон.
Пять музыкантов танцуют на месте или кружатся в хороводе на площади под ритм своих барабанов. Мужчины одни за другим отделяются от толпы, исполняют свой танец и тут же вручают музыкантам бумажные деньги, связки гинзэ или бутылки вина.
Вуане, который с важным видом держит микрофон, дает оркестру указания и советы. Но и он но может удержаться от желания танцевать и, передав микрофон Тони, важным, чопорным шагом делает несколько кругов. Под резким светом лампы в шумной толпе ярко блестят белые зубы.
В убежище, устроенном под навесом хижины, Зэзэ вынужден страдать в своем гамаке.
— Нужно танцевать, — говорит Вуане, вновь занимая свой пост. — Люди хотят видеть, как вы пляшете.
Каждый из нас исполняет коротенький номер и делает подарок музыкантам.
Вблизи, за стопой, снова раздаются звуки калебас. Женщинам надоело это соперничество. Через минуту разгорается борьба между неистовым бряцанием погремушек и стуком барабанов. Но все-таки это женский праздник. Тамтамы сдаются: кружок зрителей рассасывается, в ночи снова звучит только хор старух.
Праздник длится уже четверо суток. Мы знаем наизусть жесты охоты, корчевки кустов, приготовления пищи, войны… По деревне невозможно пройти без риска попасть в засаду к девушкам, охотящимся за подарками.
Нас беспокоит состояние Зэзэ — он по-прежнему горит в лихорадке. Танцы не доставляют нам никакого удовольствия. Мы бесцельно слоняемся но деревне. Коли, сидя на могиле предков, курит сигарету и болтает с одним из своих бесчисленных детей.
— Вы умеете чинить моторы, — говорит он. — Может быть, сможете привести в порядок и мой?
Жану и Тонн не надо говорить дважды — они оба залезают под капот автомобиля.
— Если мы тебе понадобимся, мы будем готовы в две минуты, — заявляет Жан. — После трех месяцев ожидания с камерой наготове можно, конечно, немного развлечься.
За ужином появляется Зэзэ. Он показывает, что нарыв вскрылся — добрый знак выздоровления.
— Мерси, — впервые говорит он по-французски.
Вечером мы снова записываем прибывший накануне тамтам, но в разгар работы движок останавливается. На этот раз ничего сделать нельзя: свеча окончательно вышла из строя. Нужно поискать другую в Масента. Тони, неутомимый ходок, тут же предлагает свои услуга.
Толпа старейший, женщин и детей сгрудилась в хижине вокруг нашей аппаратуры.
Коли приказывает принести на большой стол патефон и пластинки и усаживается в кресле.
Один из его боев крутит ручку. В благоговейной тишине раздается поскрипывание иголки. Патефон очаровывает гостей не меньше нашего магнитофона. Мы прослушиваем один за другим старинные вальсы, Люсьену Буайе, южноамериканские песни, Баха, Лаверна и очень старые записи Иветты Гильбер.
Мы только что легли, когда в комнату с сияющей улыбкой вошел Вуане.
— В Ковобакоро, совсем близко отсюда, только что умер знахарь. Надо сходить туда. В деревне уже нет ни одной женщины. Будут извлечены все мужские тайны, чтобы почтить память покойника, и вы сможете снимать.
Неожиданный случай. Наутро мы спрашиваем разрешения у Коли, так как эта церемония будет происходить в его кантоне. Он не только не возражает, но даже предоставляет в наше распоряжение двадцать носильщиков и обещает присоединиться к нам в Ковобакоро, чтобы все устроить.
После ужина мы возвращаемся в свою комнату. Оркестр калебас расположился прямо за стеной хижины, и мы вынуждены орать во все горло.
— Это становится ужасным! — заявляет Жан, растягиваясь на большой кровати.