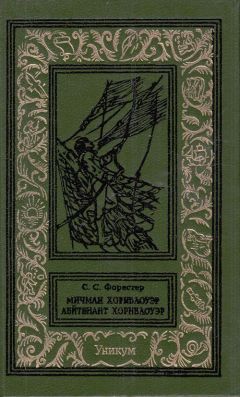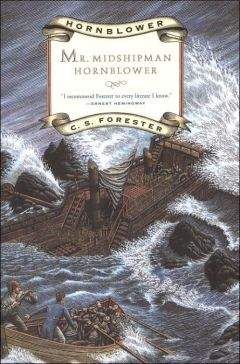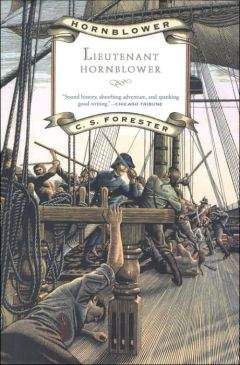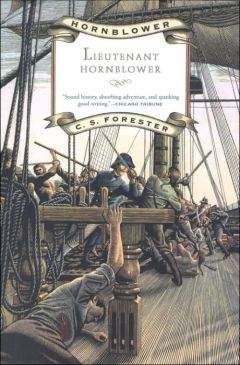Юхан Смуул - Ледовая книга
Один радист рассказал мне следующую историю. Принимая участие в какой-то геологической экспедиции, он со своим передатчиком однажды остался один-одинёшенек в сибирской тайге, в четырехстах километрах от ближайшего селения. В передатчике что-то портится, и он перестаёт работать. Радист кладёт в рюкзак еду, надевает лыжи и отправляется за четыреста километров чинить отказавшую деталь. Он прошёл по снегу через тайгу, отморозил себе пальцы и нос, провалился по дороге в реку и был на волосок от того, чтоб утонуть или замёрзнуть. Наконец он прибыл на место и отдал деталь в починку.
— И знаешь, там у ребят был спирт… И горячая печка… Уж и доволен же я был!
— Отдохнул как следует?
— Отдохнул, как же! Там оказался один корреспондент из областной газеты. Ну и взялся же он за меня! Кто я, да что я, да откуда. И особенно его занимало то, что я чувствовал, когда под лёд провалился. Говорю: «Холодно было». А он мне: «Нет, я не о том!» Я и говорю: «Зверски было холодно». А уж после, как я прочёл его статью, так сразу понял, чего он от меня хотел. Таким героем меня расписал, что только держись. А про то, как я под лёд провалился, так у него красиво вышло — хоть плачь. А меня тогда больше всего зло взяло, что табак намок.
— А дальше?
— Дальше? Смотрел на меня этот газетчик, словно на икону. Самолёта не было, вот он и застрял. Всю музыку мне испортил. Сам понимаешь, спирт есть, печка топится, ребята свои. А тут пей ночью втихую, прячься от этого журналиста. Днём спишь на печке и трясёшься — а вдруг он назад вернётся. Всю музыку мне испортил.
— А дальше?
— Дальше? Ну, починили мне деталь, и пошёл я обратно.
Когда у нас на Комсомольской был в передней (лишь тут мог поместиться достаточно большой стол) маленький банкет, мне подробно вспомнилась эта история. Люди, сидевшие рядом со мной, преодолели тысячу километров отчаянно трудного пути! У них красные от солнца и ветра лица — у кого заросшие, а у кого чисто выбритые. В руках они держат большие стаканы разбавленного спирта. Эти люди боролись с жуткими метелями, с пронизывающим ветром, с морозом. Снег был глубокий и скверный, случались аварии. И то, что их ждёт впереди, ничуть не легче. До Востока отсюда пятьсот пятьдесят километров, хотя, правда, наши тракторы один раз уже проделали этот путь. Но тем, кто направляется в Советскую, предстоит преодолеть шестьсот километров неизвестного пути по ледяному плато высотой в три тысячи семьсот — три тысячи восемьсот метров. Каждые сто метров подъёма могут здесь привести к сюрпризу, разумеется, неприятному. И любой из присутствующих знает это. Знает это начальник создаваемой станции Советская Бабарыкин, гигантского роста молодой человек в зеленом комбинезоне. Знает это Николаев, начальник тракторной колонны, знает это любой тракторист, радист, механик и каждый участник зимовки на создаваемой станции.
Но разговоры за столом вертятся вокруг других тем.
В нашу речь, конечно, врываются и метели, упоминаются аварии и прочие дорожные передряги, но все это приобретает весёлый оттенок. Весьма по-мужски ругают одного руководящего товарища, на чьём попечении лежит снабжение тракторного поезда с воздуха. Хорошо, что он не слышит тех красочных и точных эпитетов, которые обрушиваются за этим столом на его остриженную наголо голову. На парашютах сбросили мороженые яйца. (По этому поводу с другого конца стола отпускается несколько замечаний.) Самолёт сбросил поезду прогорклую рыбу, замёрзшие апельсины и т. д. и т. п. Впрочем, всем, видно, уже надоело ругать упомянутого товарища, и разговор становится все более и более весёлым: рассказываются анекдоты, сообщается о забавных происшествиях по дороге, о том, как кто-то попал впросак, как кого-то разыграли. Павлик Сорокин с графином спирта в одной руке и кофейником в другой носится вокруг стола, рекламирует свои блюда, расхваливает свою Комсомольскую, а заодно и другие станции, чтоб не показаться невоспитанным человеком. Тосты кратки и ясны. Как говорится в евангелии «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет». Кстати, на том краю стола, за которым сижу я, ни дать ни взять «тайная вечеря». В молодых лицах, обрамлённых пышными бородами, есть что-то апостольское. Но Иисус Христос вряд ли сошёл бы на землю, если бы его последователи оказались такими мирянами — без малейшего намёка на святость.
После обеда Николаев отправляется к радисту и вступает в долгие переговоры с Мирным. Людям надо отдохнуть. Требуется профилактический ремонт техники. Надо организовать склады как по дороге к Мирному, так и по дороге к Востоку. Так что, может быть, придётся задержаться дней на пять в Комсомольской. Разрешить проблему горючего. И прочие будничные дела поезда.
Завтра сюда прилетает Евгений Иванович Толстиков. Тогда все эти вопросы будут согласованы более тщательно.
Весь тракторный поезд проводит вечер на станции. Сначала показывают «Весну на Заречной улице», потом — «Аннушку».
18 января 1958
Мирный
Сегодня в Комсомольскую прилетели Толстиков и главный инженер экспедиции Парфёнов. У них тотчас началось совещание с Бабарыкиным, Николаевым и Фокиным. Обсуждались маршрут колонны, проблемы снабжения, ремонта и складов. Может быть, в Советскую направят больше тракторов, чем предполагалось. Тогда они будут легче нагружены, а в пути, которого никто толком не знает, это большой плюс.
Разговор идёт достаточно резкий. Дипломатическими любезностями тут не обмениваются. Бабарыкин высказал весьма тяжёлые упрёки по поводу снабжения и по поводу того, что на Комсомольской оказалось меньше горючего, чем было предусмотрено. Некоторых товарищей он охарактеризовал весьма язвительно. Толстиков и Парфёнов часть упрёков приняли, а часть сочли чрезмерной претензией Бабарыкина. Некоторые недостатки уже ликвидированы. В тот миг, когда я покидал совещание, шёл спор о тонне картофеля, которую требовал Бабарыкин и которую Толстиков отказывался давать, потому что до создания станции Бабарыкину негде её держать. Конкретность спорных вопросов, достаточно глубокая заинтересованность обеих сторон, не тратящих времени на всякую ерунду вроде гардин с цветочками, в том, чтобы создание Советской прошло благополучно, — все это порождало уверенность, что если не через месяц, то через месяц с четвертью станция будет открыта. Уходя из комнаты, в которой стояла вся аппаратура и жили все зимовщики Комсомольской, я взглянул напоследок на пятерых мужчин, сидевших в синем табачном дыму и споривших о картошке.
Я распрощался с Фокиным, Сорокиным и Ивановым. Может быть, мне и придётся ещё пролетать над Комсомольской, но приземляться — вряд ли.
Эта маленькая станция на холодной макушке Антарктики стала для меня, благодаря людям, такой своей, такой близкой, такой родной, такой попросту милой, что мне захотелось как можно теплее поблагодарить хозяев, но что-то сжало мне горло, и мне не хватило русских слов. Я обнялся с друзьями в холодной передней. От нашего дыхания образовалось над головами белое облако. Мы стояли и хлопали друг друга по спине руками в огромных рукавицах. Потом я побежал к самолёту, моторы которого уже ревели. Там стоял у своего трактора Саня Морозов. Ручища у него и вправду как у кузнеца, — моё плечо от его удара опустилось на полметра. Мы сказали друг другу на прощание несколько слов, и я влез в самолёт. Моторы заработали во всю мощь, металлическую лестницу втянули внутрь. Громадные лыжи помчались по заснеженной стартовой дорожке. Самолёт грузно и с трудом оторвался от неё. Сквозь замёрзшее окно я увидел домик станции, тракторы, сани с жилыми кабинами — весь поезд, обвивший кольцом склад горючего, радиомачту, красное знамя на высоком шесте и человека, обдуваемого низкой, до колен, позёмкой, Наверно, это был Иванов.