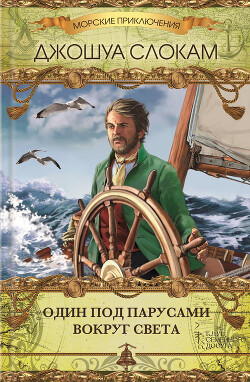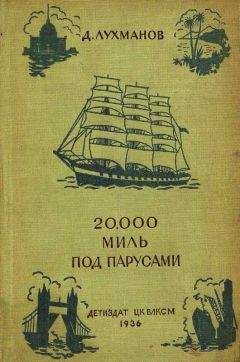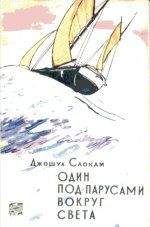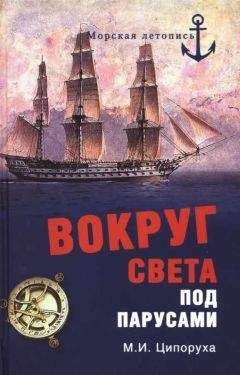Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны - Лухманов Дмитрий Афанасьевич
Своими он считал тех, кого видел за общим столом в кают-компании или в кубрике. Когда на судно поступал новый матрос, Палермо сажали на цепь, а затем во время обеда приводили в кубрик и спускали тогда, когда все сидели за столом. Новичок подзывал его, гладил, давал кусочек мяса или намоченную в супе галету. Палермо тщательно его обнюхивал и с этого момента признавал не только своим, но даже одним из хозяев, которых надо слушаться.
Палермо попал на судно год назад маленьким щенком на мысе Доброй Надежды в Кейптауне. Перед приходом в этот порт упал за борт и утонул один из матросов, и в Кейптауне наняли на его место только что выписавшегося из больницы чахоточного итальянца Луиджи из Палермо.
Он пришел на судно с черным мохнатым щенком, которого команда охотно приняла и полюбила. Щенка назвали Палермо, в честь родины матроса. Луиджи через несколько месяцев умер и был похоронен в море, а Палермо вырос и сделался корабельной собакой и общим любимцем.
Воспитанием его занимался преимущественно старый плотник Игнаций, и Палермо почитал его своим главным хозяином. Когда плотник работал на палубе, собака всегда вертелась около него; она прекрасно различала разные инструменты: пилу, топор, рубанок, молоток, ящики с гвоздями — и по требованию плотника приносила ему их из мастерской. Где бы и с кем бы ни был Палермо, но, если Игнаций свистел, он бросал все и стремглав летел к нему.
Палермо был нашим бессменным и вернейшим ночным вахтенным в портах. Он всегда лежал у трапа или у сходней, и ни один чужой человек не мог проникнуть на судно. Он был приучен также прыгать по приказанию за борт за брошенной с корабля вещью. Схватив ее в зубы, он плыл обратно; ему спускали за борт веревочную петлю, он просовывал в нее голову и передние лапы, и его поднимали на палубу.
Утром 27-го начали расправлять и мы свои крылья. И у нас нашелся запевала и, к моему удивлению, затянул старую американскую песню про Ранзо, но пел ее по-итальянски:
Запевала. Запоем про Ранзо мы.
Хор. Ранзо, гей, Ранзо!
Запевала. Запоем про Ранзо мы.
Хор. Гей, споем про Ранзо!
Запевала. Ранзо был, бедняжка, молоденький портняжка.
Хор. Ранзо, гей, Ранзо!
Запевала. С хозяином повздоря, решил пойти он в море.
Хор. Гей, споем про Ранзо!
Далее следовала вся эпопея Ранзо: как он поступил на китобоец, как не умел ничего делать и капитан велел отодрать его линьками, как в нем приняла участие капитанская дочь Китти и т. д., и т. д. Кончается песня словами:
«Армида» тоже тронулась сразу вперед и стала слушаться руля, но береговой бриз, с которым мы выходили из Сиднея, был все-таки немного свежее того, с которым выходил «Бирэйн»: наш пестрый флаг соединенных Австрии и Венгрии все-таки развевался, а не висел почти безжизненно, как у «Бирэйна».
Выйдя в море, мы получили попутный зюйд-вест балла на четыре и быстро двигались вдоль восточного берега Австралии; в тот же день вечером пришли в Ньюкасл и стали на якорь на рейде в ожидании очереди у пристани.
У пристани, или, вернее, вдоль длинной набережной, стояли гуськом в два и три ряда большие парусники. Их было здесь несколько десятков. Ближайшие к набережной грузились углем для различных портов Дальнего Востока.
Весь следующий день мы выгружали на шаланды песочный балласт, лежавший у нас в трюме, но на «Армиде» были маленький вспомогательный паровой котел и паровая лебедка, и вертеть «шарманку», как на «Озаме», не надо было: работа шла быстро, без переутомления и проклятий команды.
Ньюкаслский порт чуть не сделался последним портом моей жизни.
На другой день нашей стоянки, вечером после работ, я отпросился на берег и сел на одну из многочисленных перевозочных шлюпок, обходивших стоявшие на якорях суда и поддерживавших сообщение с берегом.
В шлюпке кроме меня уже сидели несколько моряков с других кораблей и какие-то женщины.
Солнце село, и темная южная ночь надвинулась черной папахой на многолюдный рейд, такой оживленный какой-нибудь час назад, а теперь совершенно замерший. Небо было обложено сплошными тучами, ревниво прятавшими южные звезды. Холодный зюйд-вест развел в бухте порядочное волнение, и соленые брызги то и дело обдавали нас с ног до головы.
Наконец мы подошли к какой-то пристани. Был отлив, и на пристань надо было вылезать по высокой лестнице.
Первым выскочил один из перевозчиков, чтобы собирать деньги от выходящей публики, за ним — я.
Когда я уже стоял наверху и копался в своем кошельке, отыскивая обычные «шесть пенсов», то увидел, что по крутой лестнице с большим трудом взбирается одна из наших дам. Перевозчик нагнулся, чтобы подать ей руку, а я, желая дать им обоим дорогу, сделал шаг назад и, не заметив в темноте, что и так стоял у самого края, стремглав полетел вниз и ключом пошел ко дну…
Оттолкнувшись от дна, я начал медленно подниматься вверх и тут с ужасом почувствовал, что моя правая рука, ушибленная или вывихнутая при падении, висит как плеть…
Сознание не покидало меня ни на секунду. Усиленно работая левой рукой, выплыл я на поверхность и, с трудом поддерживаясь, осмотрелся. Со всех сторон меня окружали сваи, на которые опиралась пристань. Подплыв к ближайшей, я обхватил ее здоровой рукой, но рука бессильно скользнула по обросшему морской травой бревну, а толчея от стиснутой между сваями зыби моментально оторвала меня прочь, и я снова начал барахтаться и медленно опускаться на дно. В это время до меня донеслись голоса.
— Где он? Давайте фонарь!.. Крюк, крюк!.. — кричал какой-то бас, и этот бас вдруг почему-то показался мне темно-зеленым.
Мне стало ужасно смешно: я открыл рот, и противная морская вода быстро наполнила его. Это отрезвило меня на мгновение. «Я тону!» — как молния прорезалась мысль в моем мозгу, и снова стал я изо всех сил работать левой рукой и выплывать на поверхность… Передохнув, я хотел крикнуть, но не успел: волна покрыла меня с головой…
Вдруг что-то зазвенело, закружилось; в глазах стали быстро вертеться какие-то красные круги, и я стремглав полетел в бездну. «Умер!» — смутно мелькнуло в голове… Но вот полет мой стал медленнее, тише, круги как-то побледнели, из красных сделались желтыми и синими, стали шире, и вдруг я почувствовал под левой рукой что-то теплое, мягкое, мохнатое. Я нагнулся посмотреть — это была кошка; встретившись со мной горящими ярко-зелеными глазами, она жалобно замяукала и впустила мне в левый бок острые длинные когти. Я схватил ее за шиворот, но она еще крепче впилась в мое тело и плотно прильнула отвратительным мохнатым мокрым туловищем. Я опять хотел закричать, но кошка оторвалась и тоже стремглав полетела куда-то… Все темно и тихо кругом…
Сколько прошло времени, я не знаю, но вот сначала смутно, а потом все яснее и громче какой-то голос твердит мне: «Проснись, открой глаза, ты не утонул, не умер, это было все во сне, это страшный сон, это кошмар». Я делаю нечеловеческое усилие и открываю глаза…
Долго глядел я, ничего не понимая; наконец мало-помалу стал соображать, что лежу в странном положении, лицом вниз, на чем-то твердом, под животом у меня подложен какой-то валик и что-то тяжелое, не мягкое, но и не твердое прикрыло меня с головой. Я попробовал ползти, отталкиваясь одними ногами, и почувствовал, что странная вещь, которой я был покрыт, остается позади… Еще минута — и луна, высоко стоящая в небе, очистившемся от туч, облила меня своим холодным зеленоватым светом…
Постепенно приходя в себя и вспоминая шаг за шагом все, что со мной было, я понял, что, спасенный каким-то чудом, я был привезен на «Армиду» и здесь положен ничком на палубу и покрыт брезентом. Но зачем же меня оставили в таком виде ночью на палубе? Неужели считали уже мертвым? Дрожь пробежала по телу.