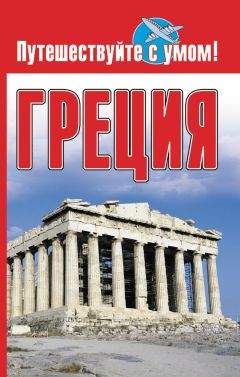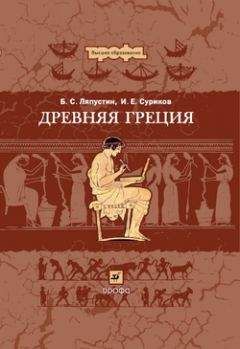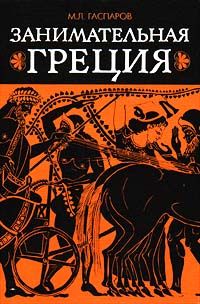Евгений Кравченко - С Антарктидой — только на Вы
— Миша, мы куда едем?
— Куда-куда? В Норильск.
— Да как же ты едешь?
— Як-як?! По Юпитеру, — Таран, когда волновался переходил на родной украинский язык.
— А карту как держишь? Она же над головой должна быть...
Пришлось разворачиваться в обратную сторону, хорошо, что горючее всегда брали с запасом. Но это был исключительно редкий случай, почему всем нам и запомнился — в Арктике штурманы «Полярки» не «блуждали».
... Поднимаюсь над облаками. Они стекают серой пеленой с купола, в редких их разрывах пытаюсь ухватить взглядом барьер, но это мне не удается.
«Даже небо здесь не такое, как в Арктике, — отмечаю я. — Ни одного знакомого созвездия вокруг».
— Доверни вправо на шесть градусов, — просит Серегин, — иначе в океан уйдем.
Доворачиваю. Да, теперь я почти убежден, что Антарктида, помимо моей воли, отталкивает меня от себя. Машину начинает побалтывать, Костырев мгновенно улавливает это, и дремы, как не бывало:
— Дай-ка я немного поработаю, — говорит он мне, и я передаю управление.
Наваливается усталость. В этом есть какая-то загадка — пока пилотируешь машину, ее не ощущаешь, но стоит в таких полетах, как наш, хоть на несколько минут оставить штурвал, тело дает о себе знать болью в спине, негнущимися пальцами рук, немеющими ногами. Встаю, выхожу в грузовую кабину. Миньков и Жилкинский спят, укрывшись чехлами от моторов. Наливаю чашку чая, наклоняюсь к Бойко:
— Кого-нибудь слышишь, Петр Васильевич? Тот снимает наушники:
— Пусто, Женя. В эфире вот уже четвертый час пусто. Плесни-ка и мне чайку.
Наливаю чаю ему, а затем ставлю такую же чашку перед Серегиным, который склонился над картой и все время что-то считает. Юра благодарно молча кивает, не отрываясь от работы. Ему сейчас труднее всего — мы влезли в облака, машину болтает, но куда нас сносит, с какой скоростью, остается только догадываться. Занимаю свое кресло, потуже пристегиваюсь ремнями. За остеклением кабины свинцовая муть, в которой туманным зеленым и красным облачком угадываются аэронавигационные огни на концах крыльев — весь видимый внешний мир, который нам сейчас доступен. Костырев молчит. Я знаю, что в такие минуты его лучше не трогать — может ни с того, ни с сего вдруг взорваться, а это сейчас совсем ни к чему. Он принадлежит к числу тех людей, о которых говорят: «На таких земля держится». Точнее не скажешь. Сибиряк, крепкий, кряжистый, молчаливый, добрый и застенчивый, умеющий работать без отдыха столько, сколько нужно, он многому научил меня в летном деле, за что я буду благодарен ему всю жизнь. А эти редкие срывы?
«Война, — думаю я. — Наверное, это война дает себя знать. Он носит ее в себе, как рану, а кто-нибудь из нас, сам того не желая, нечаянно, вдруг ее потревожит». Костырев воевал на пикирующем бомбардировщике Пе-2, одном из самых сложных и, если можно так сказать, неблагополучных самолетов. Не выходя из пике, они, случалось, рассыпались в воздухе, не прощали летчику малейшей ошибки при приземлении. Костырев не любил вспоминать войну, а если и говорил о ней, то скупо и только тогда, когда вспоминал какой-нибудь случай, который мог мне пригодиться в мирное время. Лишь однажды он выдал себя:
— Я очень многих друзей там потерял. Не представляю, как сам остался жив. Может поэтому так иногда боюсь, чтобы с вами ничего не случилось. Вы же еще совсем молодые...
Он сидел чуть сутулясь, наклонившись вперед. И в его фигуре было столько мощи, что я подумал: «Гора. Человек-гора...» Я положил руки на штурвал и по его движениям понял — машина начинает тяжелеть, мы хватаем лед.
— Штурман, — вдруг окликнул Костырев Серегина, — может, поднимемся повыше? Тебе звезды нужны?
— Нужны, не по душе мне эта муть, — голос Юры повеселел. На высоте около четырех тысяч метров мы вырвались в чистое небо. Серегин сумел «схватить» небесные светила, скорректировать курс. Под нами плыла холмистая равнина, пустая, как океан, в который не вышел ни один корабль.
— Женя, бери управление, я чайку попью, — говорит Костырев и выбирается из кресла. Мне кажется, я слышу, как скрипят его суставы, и невольно улыбаюсь. Хорошо, что командир этого не видит.
— «Мирный» на связи, — ни к кому не обращаясь говорит Бойко, — слышимость отличная.
— Как у них погода?
— Чисто. Небольшой ветер с купола. Ждут нас.
— Штурман, сколько нам еще топать?
— Километров восемьсот, — отвечает Серегин. — Скоро светать начнет, а там и «Мирный» покажется.
Значит, если в лоб не ударит встречный ветер, нам еще висеть в воздухе часа четыре. Думать ни о чем не хочется. Все ощущения притупляются, приходит равнодушие ко всему, что видишь, — верный признак, что усталость овладевает тобой все больше. Несколько раз плотно закрываю глаза, напрягаю и расслабляю мышцы, наклоняюсь к штурвалу и откидываюсь к спинке кресла — кажется, взбодрился.
— На сон потянуло, Жан? — спрашивает Межевых. — Потерпи, недолго осталось. Или Минькова позвать?
Время течет медленно, но все же течет. Высота дает себя знать: покалывает в висках, начинает болеть затылок. Но лезть в облачность не хочется, сейчас сам Бог не скажет, что под нами: ледник, горы или море? Да и такое безмятежное с виду, серебристое поле облаков в своей глубине может таить, что угодно — обледенение, мощную болтанку, встречный ветер. Серегин будто угадывает мои мысли:
— Жень, пройдем гору Гаусберг, за ней должно быть почище. Гнилое, скажу тебе, место, хлебнем мы еще с ним неприятностей...
Что правда, то правда. Западный шельфовый ледник, купол Завадовского, гора Гаусберг, над которыми нам уже приходилось летать, — места, не доставляющие радости ни человеческому глазу, ни самолету. В них будто сосредоточилась вся неприязнь Антарктиды к нам.
Серегин оказался прав. Облачность оборвалась за шельфовым ледником. Как только мы его прошли, на востоке, словно приветствуя нас, начала разгораться красная полоска зари. Это было как подарок. И будто веселее стало в нашем Ил-14. Проснулся Миньков и, заглянув к нам, поприветствовал экипаж. Межевых, сменивший в очередной раз Жилкинского у плиты, предложил всем горячего чая. У Бойко появилась работа — держать связь с «Мирным», до которого теперь рукой подать. И даже Костырев потянулся в своем кресле так, что казалось, связки разорвутся.
Мы снизились. В багровом свете неба лед под нами окрасился в неправдоподобно мягкий, розовый цвет, а когда подошли к родному аэродрому, день уже вступил в свои права. Антарктида лежала под нами какая-то ленивая и притихшая, ледники сияли ровным голубым сиянием. Небо, подметенное к нашему прилету ветрами, стало высоким и безукоризненно чистым, в самолете все агрегаты и механизмы работали, как часы, — экипажу было от чего впасть в легкую радость. Но Костырев быстро вернул всех к действительности. Когда на горизонте показался «Мирный», голос командира приобрел жесткость, от которой вся эйфория испарилась вмиг: