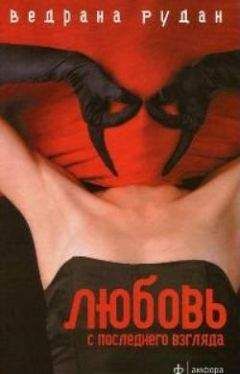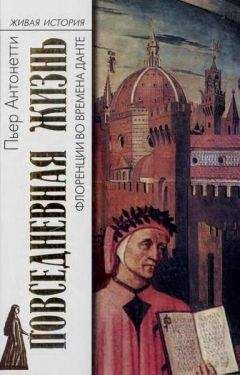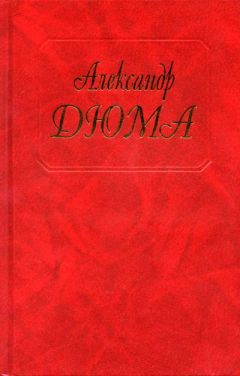Камни Флоренции - Маккарти Мэри
То, что произошло с флорентийской живописью в пятнадцатом веке, в эпоху открытий, похоже на легенду — иногда о Прометее, иногда о Фаусте. Со времен древних греков на земле не было народа, более склонного к умозрительности, чем флорентийцы, а платить за эту умозрительность приходилось дорого. Постоянные эксперименты в политике приводили, как и в Афинах, к падению правительств, а эксперименты в области искусства начали мешать художникам. «Ах, Паоло, — якобы говорил Донателло, — из-за этой твоей перспективы ты верное меняешь на неверное». Чем больше развивалась наука, тем больше появлялось сомнений. Внезапно, каким-то чудом, обнаружилось, что плоскую поверхность можно представить так, чтобы она казалась выпуклой — в то же самое время наука доказала, что, как это ни парадоксально, сама земля, кажущаяся плоской, на самом деле круглая! Нарушились все связи между кажущимся и действительным. «Фома неверующий», обычно изображаемый (например, венецианцами) в виде пожилого человека, у флорентийцев превратился в красивого, прелестного юношу — самого очаровательного из всех учеников; на «Тайной вечере» Андреа дель Кастаньо он сидит, изящно опершись подбородком на руку, а статуя работы Верроккьо в Орсанмикеле представляет его стоящим, с дивными кудрями и стройными ногами в сандалиях.
Почувствовать своеобразие флорентийского склада ума позволяет одна история того времени — «О жирным столяре». Она повествует о том, как Брунеллески и его друзья разыграли некоего толстого столяра, который оскорбил их, не приняв приглашение поужинать вместе. Они решили убедить столяра, что он на самом деле не существует, то есть отнять у него ощущение себя как личности. Для этого они, во-первых, перестали узнавать его, а, во-вторых, приводя тщательно продуманные доводы, стали убеждать его в том, что толстяк, за которого он себя выдает, действительно существует, но это не он. Более того, настаивали они, он — это просто какой-то спутанный поток сознания, ничто, которое считает себя толстым столяром. Кульминация истории такова: дрожащий толстяк боится идти домой, опасаясь, что там его ждет «Он» — то есть он сам. «Если Он там, — думает толстяк в панике, не теряя, однако, надежды выпутаться из сложного положения, — что я буду делать?» Эта история самоотчуждения, страшнее и изощреннее которой не мог бы придумать и Пиранделло, подается как происшествие, действительно имевшее место в то время с неким Манетти дель Амманатини. Не в силах пережить случившееся, он уехал в Венгрию, где и окончил свои дни. На самом деле впечатлительный столяр вполне мог быть одним из тех, кто «занимался интарсией», как пренебрежительно обронил Донателло, и специализировался на иллюзорных эффектах перспективы, экспериментируя с тщательно выложенными из деревянных деталей mazzocchi, шарами, точками и так далее. Истинный же герой этой истории — гениальность Брунеллески: так же талантливо, как он вычислял точку схода, он сумел заставить толстяка исчезнуть или поверить в то, что он исчез, как мячик, подброшенный жонглером, становится невидимым, хотя и находится в поле нашего зрения.
Склонность флорентийских художников к эксцентричности, чудачествам, таинственности прояваяется и у Пьеро ди Козимо, прославившегося во времена Савонаролы своими картинами, изображающими драконов и других чудищ. Вазари рассказывает, что Пьеро «вел жизнь скорее скотскую, чем человеческую», не позволяя подметать свое жилище и окапывать или подрезать деревья и виноградные лозы всаду. Неопрятный и дикий, он хотел бы, чтобы всё вокруг, подобно ему, вернулось к дикому природному состоянию, и испытывал настоящую страсть ко всем странностям и «ошибкам» природы. Он искал чудеса повсюду, в облаках он мог разглядеть лица, а на грязной, заплеванной стене — сцены сражений. Одна из его странностей состояла в том, что он никому не позволял смотреть, как он работает.
У Леонардо было очень много общего с Пьеро ди Козимо, и еще больше — с Уччелло. Те же коллекции птиц и животных; тот же интерес к уродствам и отклонениям; та же склонность к занятиям математикой и научным изысканиям; те же бесконечные эксперименты, сделавшие его мастерскую похожей на лабораторию алхимика, полную новых красок, которые он опробовал, часто получая плачевные результаты, потому что краски оказывались нестойкими, и замечательные картины, как рассказывали, бурели и покрывались морщинами, словно лицо уродливой старухи. Казалось, в Леонардо сосредоточилась вся гениальность флорентийцев, — он был гениальным ученым, инженером, картографом, живописцем, архитектором, скульптором; кроме того, он был весьма хорош собой. Из всех дарованных ему талантов он больше всего ценил живопись и этим отличался от Микеланджело, который, будучи почти таким же одаренным, презирал любую живопись, считая ее детским занятием, недостойным мужчины, и дел ал исключение лишь для фресок. Однако и Леонардо, как Уччелло, порой так увлекался математическими загадками, что забывал о своем искусстве. Монах, выполнявший функции тайного агента Изабеллы д’Эсте, писал ей о работе Леонардо: «Итак, математические опыты настолько отвлекают его от живописи, что он уже видеть не может кисти».
В случае Леонардо элемент колдовства в его излюбленном виде искусства, наконец, проявился в чистейшем виде. Предполагаемый автопортрет, написанный им в старости, представляет его в образе этакого древнего Мерлина или друидского колдуна: налицо все атрибуты волшебника — длинные белые волосы, борода, мохнатые брови. Синеватые пещеры и гроты, сталактиты и сталагмиты, зеркальные озера и затененные реки его станковой живописи манят зрителя в тайное королевство зловещей маши. В кривых улыбках его Мадонн и святых Анн кроете я змеиное искушение; Иоанн Креститель с мягкими женскими грудями и белыми пухлыми руками, как у кокотки, превращается в Вакха в венке из виноградных листьев, с леопардовой шкурой на плечах. Все пребывает в состоянии медленной метаморфозы или ползучего превращения, а объект самого прославленного из его полотен, Мона Лиза с ее таинственной улыбкой, без всякого сомнения, ведьма. Именно поэтому людей так и тянет изуродовать эту картину, пририсовать ей усы ил и украсть ее; она стала самой известной картиной в мире, потому что вся ложь, все мистификации живописи воплотились в ней и внушают страх.
Глава пятая
История Флоренции в период ее расцвета — это история новшеств. Именно флорентийцы создали первое значительное произведение на народном итальянском языке (это «Божественная комедия» Данте), возвели первый массивный купол со времен античности, открыли законы перспективы; именно они впервые написали обнаженную натуру эпохи Возрождения и первыми сочинили оперу («Дафна» Джакопо Пери). Точно не известно, в Венеции или, может быть, во Флоренции впервые начали собирать статистические данные. Первый гуманист, Петрарка, родился в семье флорентийских гибеллинов-изгнанников, fuorusciti, которые к моменту его появления на свет нашли приют в Ареццо. Литературная критика, в современном смысле этого понятия, началась с Боккаччо: в 1373 году, после того как синьория постановила, что «произведение поэта, обычно именуемого Данте», следует читать вслух принародно, он выступал с лекциями о «Божественной комедии» в маленькой церквушке близ Бадии. Картину клинических симптомов чумы, приводимую Боккаччо в «Декамероне», можно считать началом описательной медицины. Макиавелли обычно называют отцом политических наук, он первым стал изучать механизмы власти в политике и управлении. А первый современный искусствоведческий труд был написан Леоном Баттистой Альберти.
В четырнадцатом веке во Флоренции учредили первую кафедру греческого языка. Первую публичную библиотеку основал Козимо Старший в монастыре Сан Марко. Литературный итальянский язык был создан исключительно тосканцами, и в основе его лежит диалект, на котором говорили во Флоренции; в девятнадцатом веке Мандзони, автор «Обрученных», приехал в эти края из Милана, чтобы, по его собственным словам, «выполоскать свое белье в водах Арно»; Леопарди переехал во Флоренцию из Марке. Тоскана — это единственная область в Италии, не имеющая собственного диалекта; тосканский диалект — это и есть, собственно говоря, итальянский язык. То, что порой называют тосканским диалектом — например, когда в просторечии твердое «к» заменяется на «х» («hasa» вместо «casa»), — это всего лишь разница в произношении. Точно так же итальянская живопись говорила по-тоскански со времен Джотто вплоть до смерти Микеланджело, то есть в течение почти трех столетий.