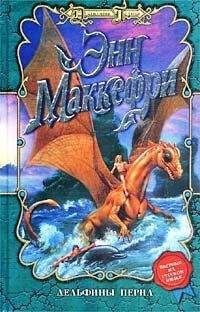Владимир Санин - Сборник "Семьдесят два градуса ниже нуля"
— Хуже детей! — сокрушался судовой врач. — Ребятню хоть можно выгнать с пляжа, а этих ничем не проймешь!
Полярники сочувственно слушали призывы врача, мудро напоминали друг другу о вреде солнечной радиации и, наскоро позавтракав, бежали с подстилками на верхнюю палубу — занимать лучшие места. И старпом делал вид, что не замечает цыганского табора на палубе, потому что знал, что перевоспитать таких пассажиров невозможно: слишком долго и исступленно тосковали они но солнцу. Время от времени старпом приказывал боцману поливать из шланга, «невзирая на лица», и этим ограничивался.
Антарктида осталась далеко позади, и ничто не напоминало о ней в этих благословенных широтах, где вода шелковиста на ощупь, а воздух соткан из солнечных лучей. Ледовый материк и друзья, зимовавшие на нем, находились где-то в другом измерении, в другом мире. Конечно, пассажиры «Визе» постоянно вспоминали о них, весело поздравляли с праздниками и днями рождения, но настоящие воспоминания и белые сны придут потом, когда будут пережиты первые радости встречи и начнутся будни.
Возвращение, само по себе высшая награда для полярника, состоит из четырех этапов: посадка на корабль и превращение в беззаботного пассажира, недели две тропического солнца, два-три дня стоянки в порту, где можно ступить ногой на землю, вдохнуть аромат зелени, купить подарки и увидеть живых женщин, и — встреча на причале.
У каждого был свой счет. Одни вели его от того дня, когда «Визе» покинул Мирный, другие — от последнего айсберга, третьи — от перехода экватора, а четвертые, самые мудрые, берегли свои эмоции до Канарских островов. Вот растают они за кормой, тогда и зачеркивай в календаре десять клеточек. Раньше чего считать, только нервы дергать.
Но в тропиках вместо двух недель пробыли целых шесть: на подходе к Канарским островам вышел из строя винт, чуть не месяц проболтались на ремонте в Лас-Пальмасе. Так домой хотелось, что и солнце осточертело, и лучшие в мире пляжи (согласно рекламе), и волоокие смуглые красавицы (хотя и не реклама, но и не объективная реальность, данная нам в ощущении). Были бы крылья, так бы и улетел домой из этого курортного рая в свой промозглый, с вьюгой март-апрель.
Эти приплюсованные к дороге четыре недели многих подкосили. Ибо возвращение полярника домой не только сплошной праздник, это еще и сильная психологическая встряска, сопровождающая любую разрядку. Бывает, что отзимовавшие полярники, главным образом первачки, не выдерживают гнета ожидания, впадают в черную меланхолию; одному мнится, что от него что-то скрывают, другому распоясывает больное воображение запоздавшая весточка ив дому. Морское путешествие кажется бесконечным.
Не находил себе покоя и Синицын.
x x xЗабыть — это значит простить самому себе.
Угрызения совести, терзавшие Синицына первые дни, но мере удаления от Антарктиды ослабевали. Он загорал, купался, играл в шахматы и резался в козла, смотрел кино, спал сколько хотел и понемногу забывал о том, что поначалу мучило его. События, еще совсем недавно заполнявшие всю его жизнь, виделись издалека мелкими и незначительными. В кают-компании он сидел на почетном месте — что ни говори, а начальник двух трансантарктических походов, о его ссоре с Гавриловым никто не вспоминал: мало ли из-за чего люди не разговаривают, когда сплошные нелады.
К тому же с Антарктидой Синицын твердо решил кончать: и годы, не те, чтобы со здоровьем не считаться, и деньги не такие уж большие, чтобы подвергать себя столь чувствительным лишениям, — он и на Большой земле может иметь не меньше. А раз с полярной покончено, то перевернута страничка и забыта.
Но когда «Визе» надолго застрял в Лас-Пальмасе и день за днем стали тянуться в мучительной праздности, Синицын вдруг понял, что сам себя обманывал, рано перевернул страничку.
И все дело было в этих приплюсованных четырех неделях.
Не тем они угнетали Синицына, что продлили и без того постылую дорогу, не тем, что с каждой ночью Даша все больше спать мешала, и не другими фантазиями, истерзавшими многих первачков, — он, как всякий старый полярник, умел ждать с достоинством. Угнетали его эти четыре недели потому, что развеялась надежда вернуться домой до прихода Гаврилова на Восток.
Синицын знал, что сильные морозы начнутся там в марте и только тогда станет ясно, очень или не очень плохо придется Гаврилову. В глубине души Синицын надеялся, что за шестьдесят морозы не перехлестнут и Гаврилов не заметит, что идет на слабо разведенном соляре. Ну а если даже и заметит, то матюгнется, облегчит душу и шума большого поднимать не станет. А если даже и поднимет, то он, Синицын, в это время будет уже дома. В самом крайнем случае позвонит из Ленинграда бывшее полярное начальство, проинформируешь его и повесишь трубку.
Думал, что в марте будет в Москве, а оказался в Лас-Пальмасе, на корабле, рация которого принимала ежедневные диспетчерские сводки из Мирного.
В них ничего не говорилось о его, Синицына, проступке и вообще не упоминалось его имя, в них протокольно отмечалось, что морозы на Востоке такие-то и что поезд Гаврилова на пути к Мирному прошел за сутки столько-то километров.
Но между строк Синицын читал другое.
Вчера в районе Востока было минус шестьдесят пять, а поезд прошел двенадцать километров. Сегодня — минус шестьдесят шесть, а поезд стоит, движения вперед нет.
Проклятия по своему адресу читал между строк Синицын!
Днем он по-прежнему загорал, купался, играл во всякие игры, и часы пролетали незаметно. Но когда ложился в постель и оказывался наедине со своими мыслями, время останавливалось. От снотворного пришлось отказаться, после него весь день ломило голову и подташнивало, а другие средства — многокилометровые прогулки по Лас-Пальмасу и вечерние по палубе, теплая ванная в медпункте перед сном — не помогали. Спал Синицын мало и плохо, от постоянного недосыпания стал вялым и раздражительным, и даже старые приятели избегали с ним общаться. Поначалу, заметив, что он не в себе, пытались вызвать его на откровенность и даже прямо спрашивали, что с ним стряслось, а потом перестали: не принято у полярников назойливо лезть приятелю в душу.
Никогда раньше Синицын столько не копался в себе. Перебирая свою жизнь, вспоминал о случаях, когда легко и безнаказанно халтурил, втирал очки. Не хватало запчастей, списывал, бывало, ради двух-трех подшипников почти новую машину, сдавал на бумаге несуществующий котлован, оборудование, которого не было и в помине, выкручивался как мог…
Но раз человек сам себе судья, успокаивал себя, то он сам себе и адвокат. У правды две стороны, и если уж казниться за плохое, то нечего замазывать и хорошее.