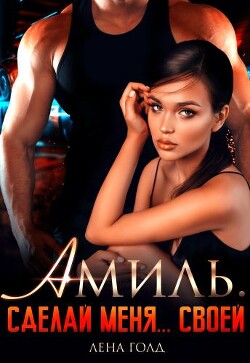Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды - Кружков Григорий Михайлович
Если мысленно «подкоротить» с двух сторон мозаику в Национальной галерее, убрав горящие обломки впереди и адскую яму сзади, получится прямая иллюстрация этого стихотворения!
Впрочем, не надо и подкорачивать. Ведь художник ничего не придумал сверх того, что было у Гумилева. Ужасы, которые он «добавил», уже там существовали в виде «ада» и «стонов»…
Хрупкая фигура в голубом, глядящая на гибнущий мир, сама по себе ангелоподобна, но, не довольствуясь этим, Анреп изобразил за ней парящего и почти приникшего к ней ангела с тускло золотящимися крылами. Этот благословляющий ангел-хранитель композиционно смотрится, как крылья у нее за спиной, нечто неотделимое от основной фигуры.
Положение Ахматовой между двумя ужасами, горящими зданиями впереди и ямой с жертвами позади, полно неразрешенного конфликта. В ее лице как будто нет явного со-страдания (страдания, искажающего черты лица), скорее удивление («Наклоняясь, удивлялся безднам»). Разве только черная точка безмерно печального взгляда да напряженность позы, эта физически ощутимая невозможность встать и распрямиться.
В этом, да и во всей сжатой по вертикали композиции мозаики отразилось восклицание заключительной строфы: «Тесно в мире!»
Мог ли Анреп услышать «Акростих» от самого Гумилева — например, в 1917-м, когда тот останавливался у друга в Лондоне? Или еще раньше от Ахматовой? Неизвестно. Во всяком случае, он наверняка прочел его в посмертном сборнике Гумилева. Думаю, что прочел с особым вниманием — ведь он сам был адресатом акростиха Ахматовой:
В этом треугольнике акростихи писались по направлению «главных силовых линий»: от Гумилева к Ахматовой, от Ахматовой к Анрепу. По свидетельству ближайшей подруги Ахматовой Валерии Срезневской (которое можно считать «авторизованным»), Гумилев «занимал в жизни ее сердца скромное место», а для него она была единственной большой любовью, прошедшей сквозь всю его жизнь и стихи.
В своей аллегории Сострадания Анреп запечатлел главное — то, что Ахматова сама произнесет лишь много лет спустя в четверостишии, поставленном как эпиграф к «Реквиему»:
Под тесным небосводом — но под защитой спасшего ее Ангела-хранителя… Так изобразил ее художник. Ахматова лежит рядом с отверстой ямой, полной тел и скелетов, напоминающих нам, прежде всего, о блокаде Ленинграда и о сталинских массовых репрессиях (а европейцам — вообще об ужасах двух мировых войн XX века).
Известно, что у Ахматовой было черно-белое изображение лондонской мозаики, присланное Борисом после начала «оттепели». Видела ли она живьем «свою» мозаику, когда приезжала в Англию за присужденной ей докторской мантией? Кажется, что нет.
Снова удивляюсь, как совершенно стихотворение Гумилева. Ангел, легший «у края небосклона» и заглянувший вниз, в бездну. Родившееся в этот миг его отражение на земле — ангел-двойник, обреченный жить и скитаться в этом страшном мире, открывая для себя заново то, что знал еще до рождения — «азбуку своих же откровений».
И все это выражено в двенадцати гармоничных строках, где нет ни одного лишнего слова, не заметно ни малейших усилий по решению технической задачи акростиха.
Напомню, шел только тысяча девятьсот одиннадцатый фантастический год. «Ад молчал. Не слышалось ни стона».
И последний эпизод. В том же 2001 году мне довелось познакомиться с Игорем Анрепом, сыном художника. Встречу устроил его сын Бен Анреп (внук Бориса), с которым я ранее списался. Игорь Борисович родился в 1914 году во Франции. Он был по профессии врач, к тому моменту, естественно, на пенсии.

А его жена Аннабел оказалась племянницей знаменитой писательницы Элеоноры Фарджен (я в свое время перевел несколько ее стихотворений для детей), а также автором биографической книги о своей тете. Но то, что она написала еще книгу о своем русском свекре-художнике, основанную не только на личном и устном материале, но и на основе сохранившегося архива семьи, об этом она даже не упомянула. Так что, когда три года спустя я увидел изданную журналом «Звезда» книгу: «Аннабел Фарджен. Приключения русского художника. Жизнь Бориса Анрепа», это было как отсроченное эхо того лондонского вечера.

Добрые хозяева напоили меня чаем, после чего Игорь Анреп стал приносить и показывать мне картины отца. Это были, сколько помнится, подготовительные вещи для его мозаик, а также один или два автопортрета. Увидеть их было очень интересно; но я бессознательно ожидал чего-то еще… Вдруг хозяин вынесет мне папку с рисунками Бориса Анрепа, а там — Ахматова в 25 лет, увиденная глазами влюбленного в нее художника.
Увы, здесь меня ждал полный облом. Сенсации не состоялось.
Ракушка восемнадцатая Дартингтон-холл
(Собака Баскервилей)
Поездка в Дартингтон-холл была моим единственным путешествием в Девоншир, графство на юго-западе Англии, похожее на подбородок старика, заканчивающийся острой, торчащей вперед бороденкой (Корнуолл). Беззубый рот этого старика — Бристольский залив, а кончик носа — мыс Сент-Дэйвидс в Уэльсе, где мы еще, надеюсь, побываем.

Итак, я доехал на поезде до городка Тотнес, ничем особенно не знаменитом, кроме того, что сюда когда-то приплыл Брут — но не тот, который «и ты, Брут!», а племянник троянца Энея. По имени этого Брута (племянника) Британия и получила свое название; так свидетельствует достопочтенный Гальфрид Монмутский в «Истории королей Британии», а ему нельзя не верить. Тем более, что в городе до сих пор стоит Камень Брута с надписью, гласящей: «Here I stand and here I rest. And this town shall be called Totnes» (то есть, в вольном переводе на русский):
Ознакомившись с этим важным камнем, я полюбовался на Тотнесскую крепость (выглядящую немножко игрушечно) и отправился пешком в Дартингтон, до которого было не больше полутора миль. Я шел по тропе вдоль высокого берега Дарта, давшего имя всему вокруг — от Дартмурского природного заповедника, откуда он начинал свой путь, до лежащего в устье реки старинного порта Дартмут. Шел и радовался скорой встрече с друзьями. В Дартингтон меня позвали супруги композиторы Дима Смирнов и Лена Фирсова: помните, я рассказывал, что у них в Москве я и познакомился с Рози и Джерардом. Дима был не только музыкально, но и литературно одарен. Много лет он изучал и переводил Уильяма Блейка, причем переводил эквилинеарно и эквиритмично; так что музыкальные сочинения Димы на стихи Блейка, в том числе, две оперы (поставленные в 1989 году во Фрейбурге и в Лондоне), могут с равным успехом исполняться и по-английски, и по-русски. В завершение всего, он написал первую на русском языке полноценную биографию Блейка [6].