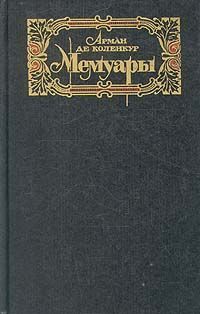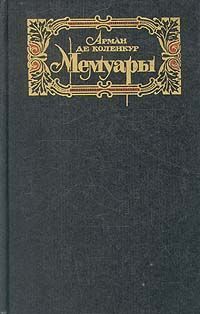Александр Дюма - Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию
В своем положении жен и дочери офицеров они были точны по-военному. Что же до нашей калмыцкой княжны, то звонок в пансионате разбудил ее в семь часов.
Итак, эти дамы, как я уже сказал, были очень образованы и находились в курсе дел нашей литературы; но они очень хорошо знали лишь произведения: и очень мало об их творцах. Поэтому я должен был рассказать им о Бальзаке, Ламартине, Викторе Гюго, Альфреде де Мюссе и, наконец, обо всех наших поэтах и романистах. Невероятно, как справедливо, пусть инстинктивно, можно сказать, судили о наших замечательных людях молодые женщины, самой старшей из которых самое большее было 22 года! Условимся, что здесь я: ничего не говорю о княжне Грушке, едва знающей русский, еще меньше французский и остающейся при разговоре настоящей иностранкой.
Так как берега Волги мне были знакомы, а если их увидишь раз, то больше не тянет смотреть, я мог оставаться в каюте, где дамы оказывали мне честь меня принимать. Не знаю, сколько времени длилось плаванье, но когда крикнули ― «Прибываем!», подумалось, что отошли от Астрахани не дальше, чем на десять верст. Поднялись на палубу. Берег Волги на четверть лье был усыпан калмыками, мужчинами и женщинами всех возрастов. Дебаркадер был осенен знаменами, и артиллерия князя, по-моему, из четырех пушек, палила. «Верблюд» отвечал на ее приветствие двумя малыми орудиями.
Ожидающий нас князь находился на верху дебаркадера. Он был в национальном костюме, в большом белом рединготе, наглухо застегнутом на маленькие пуговицы, в желтом головном уборе типа польской конфедератки, широких красных шароварах и желтых сапогах.
Меня ввели в курс этикета. Так как праздник устраивался в мою честь, я должен был пойти прямо к князю, обнять его и потереть свой нос о его нос, что значило бы: «Желаю вам всяческого процветания!» Относительно княгини, если она протянет руку, то позволяется к ней приложиться; но предупредили, что это было бы милостью, которую она даровала очень редко, и что без ее на то позволения я сделал бы это перед трауром по себе.
Судно остановилось в пяти-шести метрах от дебаркадера, и я сошел с него среди огня двойной артиллерии. Предупрежденный о протоколе, я не стал отвлекаться ни на месье Струве, ни на дам: я важно поднимался по ступеням дебаркадера, тогда как князь не менее степенно спускался по ним навстречу. Мы встретились на полпути. Я обнял его и потерся своим носом о его нос, как если бы был калмыком всю мою жизнь. Хвастаюсь не без основания: нос у калмыков, в общем-то, не является выступающей частью лица. Князь посторонился, чтобы дать мне пройти, затем принял месье Струве, но без трения носами, а простым рукопожатием, после чего обнял сестру, отдавая остальное внимание дамам, которые ее сопровождали.
Как все восточные женщины, калмычки, похоже, не занимают слишком высокую ступень в социальной иерархии края.
Князь Тюмень был мужчина 30-32 лет, толстоватый, хотя довольно высокий, с очень небольшими руками и ногами. Калмыки всегда на коне, их ноги почти не развиваются и почти одинаковы в длину и ширину. Несмотря на ярко выраженный калмыцкий тип князь Тюмень даже на взгляд европейца выглядел довольно приятным. С черными гладкими волосами и черной редко сеяной бородой, он казался мощным телом.
Когда все сошли на берег, он пошел впереди меня с покрытой головой. На Востоке, как известно, чествовать гостя, значит, не обнажать головы в его присутствии; евреи даже в синагогах не снимают шапок. От берега до замка было не более двух сотен шагов. Дюжина офицеров в калмыцком наряде с кинжалами, патронташами и саблями, украшенными серебром, стояли по обе стороны дверей, обе половины которых были открыты. Пройдя через множество залов, князь и я, идущий рядом, со слугой, вроде мажордома, впереди, оказались перед закрытыми дверями. Мажордом легонько стукнул, и они отворились вовнутрь, не показав, кто повернул в петлях обе их половины.
Княгиня сидела как бы на троне; по шесть справа и слева сидели на пятках дворцовые девушки-фрейлины. Все они были недвижны, подобно статуям в пагоде. Наряд княгини был великолепен и оригинален одновременно: расшитое золотом платье персидской ткани, сверху шелковая туника до колен; туника с вырезом на груди открывала корсаж платья, сплошь расшитый жемчугами и диамантами. Шею княгини закрывал скроенный по мужскому фасону батистовый воротничок, застегнутый спереди на большие жемчужины; голову покрывал колпак четырехугольной формы, верх которого казался сделанным из красных страусиных перьев, а низ был раздвоен вырезом, чтобы не закрывать лба; с одной стороны, он доставал до шеи, с другой ― был поднят до уха, что женщине, которая носит такой головной убор, придает бьющий слегка на эффект и самый кокетливый вид. Поспешим добавить, что княгине едва ли было 20 лет, что ей восхитительно шли глаза, как у китаянки, и что ниже носа, который можно было упрекнуть лишь в том, что он недостаточно выделялся на лице, приоткрывались алые губы, скрывающие жемчужины, что своей белизной вгоняли в стыд жемчуг ее корсажа. Признаюсь, я нашел ее такой красивой, какой, на наш взгляд, и должна быть калмыцкая княгиня. Возможно, ее красота, близкая красоте, по нашим понятиям, ценится в Калмыкии не так, как если бы она больше тяготела к национальному типу. Впрочем, об этом я совсем не думал, исходя из того, что князь очень любит свою жену. Рядом с нею находился одетый молодым калмыком ребенок пяти-шести лет от первого брака князя Тюменя.
Я приблизился к княгине с честным и простым помыслом ее приветствовать, но она протянула для поцелуя маленькую руку в перчатке без пальцев из белого кружева. Не стоит говорить, что эта совсем нежданная милость переполнила меня радостью. Я почтительно приложился к коричневатой, но пленительно сотворенной ручке, сожалея, что этикет в отношении женщин был другим, нежели в отношении мужчин. Я умирал от нетерпения пожелать княгине Тюмень всяческого благополучия!
Увидев дам, которые следовали за нами, княгиня поднялась, нежно обняла свою сестру и по-калмыцки обратилась к нашим спутницам с комплиментом, в переводе князя на русский язык звучавшим примерно так: вместе восходят и блистают во мраке неба семь звезд, и эти три женщины ― такие же яркие, как семь их небесных соперниц.
Не знаю, что ответили дамы, не сомневаюсь, что они нашли метафору, равную этой. Комплимент сказан, княгиня сделала трем дамам знак сесть на софу, а сестру удержала возле себя. Князь остался стоять и обратился к жене с короткой речью ― просил ее оказать ему содействие в предстоящих трудах, чтобы достойно принять знатных гостей, посланных Далай-Ламой[298]. Княгиня, приветствуя нас поклоном головы, кажется, ответила, что постарается исполнить роль хозяйки как можно лучше, и что супругу нужно только приказывать, а она будет повиноваться. Тогда князь повернулся к нам и спросил по-русски, не угодно ли нам послушать Te Deum ― молитву, которую он заказал своему главному священнику, и которой тот должен будет просить Далай-Ламу распространить на нас сокровища своих милостей. Естественно, мы отвечали, что молебен доставит нам самое большое удовольствие. На это князь отозвался репликой, несомненно, чтобы нас успокоить: