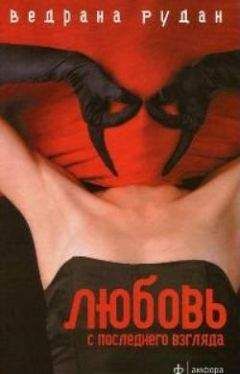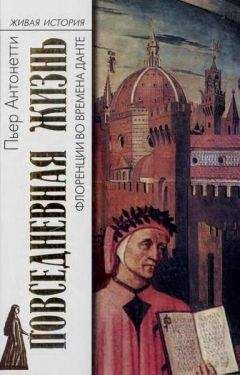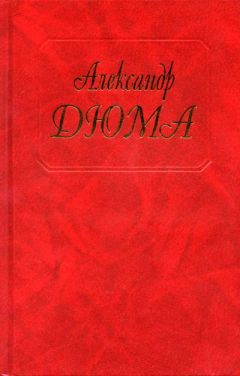Камни Флоренции - Маккарти Мэри
Ни одно поражение от внешнего противника не производило на флорентийцев такого впечатления, как их собственные, внутренние катастрофы. С самого начала жизнь в городе была очень неспокойной, прежде всего из-за его местоположения, у слияния рек, между Муньоне и Менсолой, где они впадают в Арно. Сегодня, когда летом сама Арно превращается в сухое каменное ложе, по дну которого еле-еле струится жалкий ручеек мутной зеленой воды, трудно поверить, что Флоренции со времен Тиберия неоднократно угрожал и сильнейшие наводнения. Великое наводнение 1333 года, описанное Виллани, было лишь одним из тех, которые он наблюдал. По сути дела, наводнения были постоянным бедствиемна протяжении всего тринадцатого века; в 1269 году потоком были снесены мосты Каррайя и Санта Тринита, и не удивительно, что Виллани, излагая историю города, возводит его происхождение к Ною. Конечно, многие рассматривали эти потопы как наказание за грехи; вздувшаяся река была ответом Господа на непомерную гордыню буйных горожан. К уже упоминавшемуся великому наводнению 1178 года добавились два разрушительных пожара и голод, охвативший всю Тоскану. Ранее в том же веке флорентийский епископ Раньери предсказывал конец света; он основывал свое пророчество на появлении кометы. Все природные катаклизмы, случавшиеся в Средние века, трактовались флорентийцами как предвестники грядущего Апокалипсиса; число предсказателей росло с каждым днем.
В 1304 году произошло невероятное событие, которое опять-таки было воспринято как «кара Божья». В театре, развернутом на лодках стоявших на реке у моста Каррайя, решили устроить представление «ада» — с языками адскогс пламени, молящими о милосердии грешника ми, повелителем темных сил, чертями с вила ми. Мост, заполненный зрителями, пришедпти ми посмотреть на этот спектакль, рухнул, и все находившиеся на нем утонули; во Флоренции поговаривали, что пришедшие посмотреть на ад получили что хотели.
Спустя примерно двести лет Савонарола, проповедуя в Дуомо, пугал слушателей весьма реалистичными рассказами о Ноевом ковчеге. Последователь Платона, философ и поэт Пико делла Мирандола описывал проповедь о Всемирном потопе, услышанную им 21 сентября 1494 года. «И вот, Я наведу на землю потоп водный» {14}, — прокричал Савонарола страшным голосом, подобным раскату грома, взойдя на кафедру, и холодная дрожь пробрала Пико до костей, а волосы на его голове встали дыбом. В тот же день, словно бы в подтверждение мрачного пророчества, до Флоренции дошла весть о вторжении орд иноземных захватчиков. Это были войска французского короля Карла VIII.
Всемирный потоп послужил сюжетом самой знаменитой работы Уччелло, выполненной для Зеленого клуатра церкви Санта Мария Новелла. Полет фантазии Уччелло на этой удивительной фреске, недавно отреставрированной и выставленной в старом Форте Бельведере на холме Сан Джорджо, захватывает воображение — библейское событие, относящееся к далеким временам, оказывает непосредственное, сильнейшее пророческое воздействие. Это один из тех великих образов Страшного суда, прозреть которые было дано лишь флорентийцам, от Данте до Микеланджело. Их способность к ясновидению была основана на этих образах, а также на общей для них страстной любви к своему городу и народу, подобной той, что испытывали древние евреи, и на богатстве «документальных» или научных описаний. Например, в отчете Данте о посещении ада поражает скрупулезное описание географии и геологии. Данте «исследовал» ад и обнаружил в нем множество уроженцев Флоренции; когда некий прелат раскритиковал обнаженные фигуры в «Страшном суде», Микеланджело сразу же добавил на фреску его изображение в аду, с рогами, со змеей, обвившейся вокруг чресл, а когда прелат пожаловался папе Павлу III, тот ответил: «Если бы художник отправил вас в чистилище, я бы приложил все усилия, чтобы вызволить вас оттуда, но на ад я не имею никакого влияния» [56]. Для этих решительных флорентийцев ад был так же близок, как Барджелло. Точно так же и «Потоп» Уччелло — это вполне натуралистичная картина, основанная, бесспорно, на флорентийском опыте столкновения с библейским мифом.
Она состоит из двух частей, и на каждой из них в перспективе мы видим деревянный ковчег, словно вмурованный в изображение взбесившейся природы. Слева ковчег плывет по волнам, а за его борта в отчаянии цепляются люди; справа он уже повернул и плывет к какой-то цели, а волны вокруг начали стихать. Кажется, что у обеих частей картины имеется общая точка схода, при этом точной границы между двумя эпизодами, то есть между «до» и «после», нет. Ощущение сжатия времени, спрессовавшего долгие месяцы потопа в краткое событие, только увеличивает чувство клаустрофобии, создаваемое сближающимися бортами обоих ковчегов. В этой сцене, озаренном зловещим светом, отсутствует Бог, а человек предстает загнанным в угол, лишившимся надежды на спасение (и на безопасность, символизируемую ковчегом), проклятым раз и навсегда. В узком пространстве между двумя ковчегами вода покрыта месивом мертвых тел, затрудняющих движение живым. Справа ворон выклевывает глаза утонувшего мальчика, а слева обнаженный человек верхом на плывущей лошади (похожий на кентавра) занес меч над прекрасным белокурым юношей с дубинкой в руке; округлый валик (mazzocchio), упавший с его головы на шею, похож на свернувшуюся кольцом черно-белую змею. Грубый мускулистый человек в наброшенной на плечи шкуре, тупо уставившийся в одну точку, забрался в бочку и с ее помощью надеется удержаться на плаву; обнаженный человек на плоту пытается отбиться дубинкой от медведя. Еще дальше молния ударила в дуб, и падающие с него ветки валятся на ковчег. В самом дальнем, левом углу мужчина в промокшей одежде прижался к борту ковчега и цепляется за него, украдкой оглядываясь на своих товарищей по несчастью, барахтающихся в воде.
В стороне, на маленьком островке суши, стоит величественный, чисто выбритый, аристократического вида человек, воздевший руку к небу в исполненной достоинства молитве; складки его просторного одеяния и благородная линия нахмуренных бровей словно внушают ощущение надежности. Он кажется серой скалой, утесом, о который разбиваются волны, никак не влияя на его непреходящее, словно из камня высеченное спокойствие. Из воды к его ногам тянется пара рук, дуралей в бочке вперил в него свой взгляд, но загадочный человек не отводит бесстрашного взора от некоей точки в пространстве, и, кажется, фосфоресцирует в лучах падающего на него света; в то же время над ним (часть следующей сцены) бородатый Ной, выглядывающий из ковчега, чтобы проверить, что происходит с погодой, протянул руку, словно благословляя потомков.
Никто не может с точностью сказать, кого изображает эта таинственная фигура. Большинство критиков полагают, что этот образец мужественности — Ной, готовящийся подняться на борт ковчега; другие возражают, что он не похож на бородатого Ноя, выглядывающего из окна ковчега, или на Ноя на других фресках этого цикла. Но если это не Ной, то кто же? Один из сыновей Ноя? Но он не похож ни на одного из них, изображенных на фреске «Опьянение Ноя», а его властное достоинство исключает саму мысль о том, что он может быть кем-то иным, кроме как царственным первым гражданином великого народа. Создается впечатление, что он должен быть Ноем, легендарным предком итальянского народа, чей рельефный портрет высечен на кампаниле Джотто. Бородатый Ной может быть изображением патриарха, старого, усталого, освященного заключением в ковчег, а человек на островке суши может быть Ноем в расцвете мужской силы, одним из гигантов, населявших Землю, о которых идет речь в шестой главе Книги Бытия, рожденных сынами Божьими от человеческих дочерей. Глаза и великолепный орлиный нос обоих Ноев совершенно одинаковы. В любом случае, это флорентиец, квинтэссенция флорентийца, «che discese di Fiesole ab antico e tiene ancor del monte e del macigno» («Ад», XV, 62) — «пришедший древле с Фьезольских высот и до сих пор горе и камню сродный» {15}.