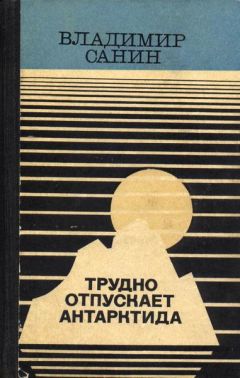Владимир Санин - У Земли на макушке
СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
В наше время, когда великие изобретения едва успевают регистрировать, вертолётом никого не удивишь. Уж на что фантастическая штука лазер, и то редактор газеты морщится: «Сто строк на лазер? Многовато, пожалуй… Подумаешь, эка невидаль!» Воображение современника — редактор знает его психологию — можно поразить уж совершенно феерическим изобретением: вроде телепередач с Марса или — куда ты меня уводишь, фантазия? — наконец-то найденного средства от облысения.
Так что вертолёт родился тихо, без рекламной свистопляски, и если теперь о нем пишут, то покровительственно, как о младшем брате самолёта. А в последнее время особенно умиляются тем, что из вертолёта получился отличный воздушный кран, удешевляющий строительные работы. Спору нет, хорошо, что вертолёт может заменить кран. Но главное достинство вертолёта именно в том, что его-то ничто не может заменить, когда нужно сесть на клочок земли или осколок льдины размером с волейбольную площадку. Вертолёт стал единственной надеждой пострадавших, которых, кроме него, уже ничто не может спасти. Вот почему на Севере, где очень легко попасть в беду, но очень трудно выбраться из неё, к вертолёту относятся с нежностью, с трогательной любовью. Вертолётчики знают это и гордятся своим исключительным положением. Их стрекозы карабкаются по небу со скоростью, которую пилот турбореактивной машины назовёт черепашьей, да и груза вертолёт поднимает во много раз меньше, чем ИЛ-18. Но этим грузом могут быть носилки с человеком, который не позже чем через час должен лечь на операционный стол; заблудившийся в тайге, умирающий от голода геолог; охотник, которого блудная льдина понесла в океан… Поэтому настоящий лётчик никогда не позволит себе иронизировать над нелепым видом и архаической в наш век скоростью вертолёта.
Из села Колымского пришла срочная радиограмма: с оленеводом одного из отдалённых участков колхоза случилась беда. От момента прихода радиограммы до вылета положены считанные минуты. Пока бортмеханик Юрий Смирнов и второй пилот Леонид Басов готовят машину, я разговариваю с командиром вертолёта Анатолием Савенковым.
Что поделаешь, фраза избитая, но Анатолий Петрович любит своё дело, свою стрекозу и не собирается ей изменять: слишком большой и интересный кусок жизни отдал он вертолёту. Как и многие люди, работа которых связана со спасением человека, Савенков сознаёт величие своей профессии и гордится каждым удачным санитарным вылетом, как хирург — спасительной операцией. Что ж, вертолётчик и хирург здесь соавторы, их легко понять и разделить их чувства. Много раз Савенков искал и находил в тайге, в тундре пропавших без вести людей, много раз возвращал к жизни тех, кому она, казалось бы, уже отмерила последние часы. В прошлом году не вернулся домой охотник-чукча. Долго Анатолий Петрович кружил над сопками, возвращался за горючим, снова искал — и нашёл истекающего кровью человека. Молодой охотник повстречался с голодным медведем — самая опасная в тайге встреча. На выстрел уже не было времени, и вооружённый ножом человек схватился с медведем врукопашную. Он победил — и допустил непростительную оплошность: забыл, что медведь считается убитым только тогда, когда он уже больше не дышит. Разумеется, в таких случаях охотники не прикладывают зеркальце к устам зверя, но стоят в почтительном отдалении: бережёного бог бережёт. А наш паренёк присел рядом с поверженным медведем, и тот в агонии хватил его лапой по лицу: выбил глаз, разорвал нос, щеки. От боли и потери крови охотник потерял сознание, и лишь фанатичное упорство Анатолия Савенкова вернуло раненому и жизнь и даже лицо: ленинградские врачи проделали блестящую косметическую операцию. И нынче охотник жив, здоров и по-прежнему промышляет в тайге. На его счёту есть уже и другие медведи, к которым набравшийся опыта охотник относится, конечно, с большим уважением, чем к первому.
Мы летим над тундрой. Я сижу напротив хирурга, испытывая танталовы муки: разговаривать в вертолёте — только нервы портить, всё равно ничего не услышишь. Иван Иванович Махначевский, ведущий хирург и главный врач Черской больницы, задумчиво поглаживает свой чемоданчик, побывавший вместе с хозяином во многих спасательных экспедициях. Сотни операций проделал этот средних лет якут, выпускник Читинского медицинского института, но сейчас его лицо печально, и не надо быть телепатом, чтобы понять почему. Где-то в одинокой яранге лежит человек, жизнь которого в опасности. Что с ним? Нуждается ли он в немедленной операции или может перенести полет? Ох как плохо делать операцию в ста пятидесяти километрах от великолепно оборудованной операционной, по которой бесшумно скользят опытные сестры, без слов понимающие хирурга — по изгибу бровей, незаметному жесту.
Вертолёт приземляется в Колымском: мы берём на борт проводника — восьмидесятилетнего якута. Пока Савенков выясняет у старика примерное направление полёта, Ивана Ивановича окружают колхозники, снабжающие его всевозможными и самыми разноречивыми сведениями о пострадавшем. Здесь есть и бывшие пациенты Махначевского, которые не без основания считают, что наиболее ценные советы могут дать именно они.
— Ты его разрежь, как меня, — советует один, — у него болезнь внутри!
— Помнишь, ты меня стучал? — суетится другой, похлопывая себя по груди. — Постучи его тоже, тогда и резать не надо!
Вооружённый неоценимыми советами, Махначевский садится в вертолёт, и мы вновь летим над тундрой, уныло однообразной белой пустыней. Летом я тундру не видел — говорят, она оживает и бывает даже красивой, — но сейчас она безжизненна и скучна, как длинный плохой роман, и её точно так же хочется быстрее перелистать, потому что не на чём остановиться глазу и ни одной мысли не пробуждает эта белая томящая скука… И среди этого мёртвого безмолвия нужно найти ярангу, ту самую иголку в стоге сена, — вот зачем понадобился проводник. Старик показывает пальцем в окно и важно кивает. Я смотрю и не вижу ничего, кроме заснеженных квадратов, но спустя несколько минут даже мой невооружённый глаз различает на снежной простыне тундры мириады точек — вроде мошкары на освещённой солнцем стене, и я догадываюсь, что это олени. Здесь их, наверное, больше тысячи, низкорослых, добродушных животных, благодаря которым и в тундре можно жить, и детей рожать, и даже слушать репортажи о футбольных матчах. Появление вертолёта олени встретили хладнокровно: они спокойно продолжали разрыхлять утрамбованный ветрами снег, под которым во всей своей вкусноте неописуемой скрывался ягель.
Но и нам было не до оленей, мы устремились к яранге — незамысловатому шатру из жердей и оленьих шкур. О ярангах я наслышался немало легенд и посему входил не без опаски. Но яранга мне, наверное, попалась образцово-показательная, сооружённая специально к приезду столичного корреспондента: в ней было тепло и уютно. Правда, импортный гарнитур на цыплячьих ножках отсутствовал, многотомных подписных изданий я тоже не заметил, но застланный шкурами пол был чистым, воздух — свежим, а раскалённая буржуйка придавала заброшенному в тундре экзотическому жилью домашнюю простоту.