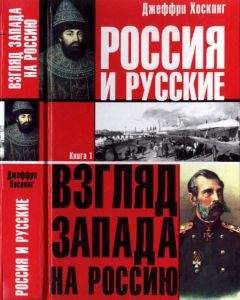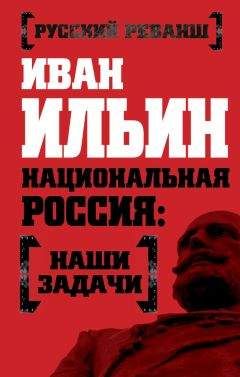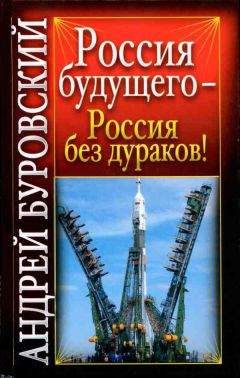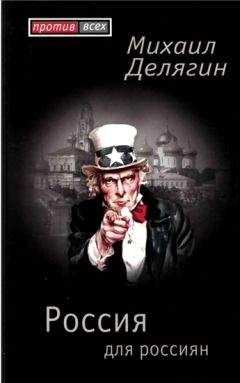Стивен Грэхем - Непознанная Россия
Прочь, прочь! Песок отлетал от моих каблуков. Я вернулся в спящую Лявлю, попытался перемахнуть через высокие ворота, но не смог, закоченел. Выбежавшая откуда-то собака залаяла на меня, решив, что я вор, только никого мы не потревожили, ни она, ни я, караульный перед полицейским участком, и тот спал и даже храпел. И какие могли быть воры в Лявле, где так верят в человеческую честность, что никто не запирает двери и даже деревенская лавка стоит с открытым окном!
~
Глава 17
ОТПРАВЛЯЮСЬ В ПИНЕГУ
Как раз в то время российские власти задержали английский траулер "Онвард", который они вскоре освободили да еще заплатили штраф в 4000 фунтов. Случай этот наделал в Архангельске много шуму, мне пришлось выслушать множество разных мнений. Меня постоянно спрашивали, не начнется ли война, а один мужик заявил: "Коли войны не будет, так потому, что генералы боятся, вдруг вам японцы помогут".
Революционеров очень радовало, что русское правительство заставили раскошелиться, как вообще все, что дискредитировало бюрократию, выставляло ее в смешном свете. Они были уверены, что меня вскоре арестуют.
Николай Георгиевич наставлял меня в своей характерной манере: сквозь зубы, задерживая дыхание, точь-в-точь Ричард Третий:
"Если вас задержат, не стесняйтесь: возмущайтесь, кричите, протестуйте. Напишите в Лондон министру иностранных дел. Заставьте их помучиться — напишите в газеты, расскажите вашим друзьям, расскажите евреям — тысяча чертей! Если б только мне до них добраться, я бы дух из них выпустил".
Эта речь утвердила меня в уже сложившемся мнении относительно характера Николая Георгиевича и его дальнейшей судьбы. Через год кончался его срок, он намеревался продолжить ученье в Харьковском университете, но при этом должен был остаться под надзором. Еще пара таких неосторожных высказываний, и ему конец. В России и у травы есть уши. Ни об одном человеке из стана революционеров нельзя с уверенностью утверждать, что он не Азеф, не платный шпион. Вот и я, дружелюбный, общительный исследователь их жизни, вникающий во все подробности, записывающий на недоступном языке, разве я не мог быть тайным агентом, предающим их каждый день и час?
"Я вам скажу, почему бы я не стал участвовать в ваших политических схватках. Все русские — лжецы, больших лжецов свет не видывал".
"Вы говорите, как немец, — отвечал мне революционер. — Вы думаете, что-то или "есть", или его "нет". А мы сердцем знаем, что и "есть" и "нет" одновременно".
"Согласен. Но разве можно хоть что-то сделать, если любой человек среди вас, даже самый значительный, может оказаться Азефом или отцом Гапоном. Вот возьмите такого смутьяна, как Николай Георгиевич — а вдруг он просто играет роль, чтобы вытянуть из вас ваши подлинные мысли и сообщить куда следует".
"А мы никогда не открываем свои подлинные мысли", — сообщил Алексей не без гордости.
"Как же вы тогда сотрудничаете?" — удивился я.
Ответом мне была та тонкая, всеведущая русская усмешка, что сбивает собеседника с толку, а ее обладателя спасает от нехватки аргументов.
Еще до исхода лета у нескольких ссыльных закончится срок, они смогут вернуться домой. Освобождаются Карл Улич, Михаил Григорьевич, Горбун, Николай Александрович. Возможно, я встречусь с ними зимой в Москве. Карл Улич получил документ об освобождении и уехал тремя днями раньше меня. По этому поводу устроили пирушку, его комната была полна народу. Здесь была вся Лявля, кипели три самовара, на столах лежали груды пирожков и конфет, привезенных из Архангельска, сосиски, икра. После "обжорки" вся компания вывалилась на улицу, откуда-то взялись музыкальные инструменты и мы целым оркестром прошлись по деревне: скрипка, две гитары, две балалайки, старая гармошка, Переплетчиков изображал тромбон, Сева выступал в качестве барабана. Белокурая сирена, певшая белою ночью на скалах, тоже объявилась среди нас, выводя визгливое соло. Студенты не меньше часа плясали с девушками па-де-спань, а потом закружились в вальсе. Затеялись самые разные игры типа "игры в почту". Душой всех игр, несомненно, была Варвара Сергеевна.
На следующий день компанией в одиннадцать человек мы поднялись под парусом на барже по реке Смердь и оказались на другой стороне Двины в деревне Смердь, где обосновались обрусевшие немцы, ведущие в этой лесной глуши жизнь вполне в немецком духе. Окрестности поражали красотой, река образовывала здесь тысячи темных заливчиков. Немецкая семья оказалась в отлучке, но мы видели их капустное поле, единственное вокруг Архангельска, их свиней, цыплят — все это было большой редкостью. Железная ограда и покрытое плиткой крыльцо тоже выглядели чужеродными в крае камня и дерева. Латышская прислуга угостила нас хлебом с маслом и молоком и поговорила по-латышски с одним ссыльным, который был из Прибалтики и знал язык.
Ночь мы провели в деревенской школе, лежали, завернувшись в оленьи шкуры, не без любопытства наблюдая за парочкой влюбленных ссыльных, они просидели рядышком всю ночь, шепотом делясь своими секретами и бросая друг на друга влюбленные взгляды — без сомнения, им эта ночь принесла немало радостей. В три часа ночи под проливным дождем мы снова забрались на баржу и поплыли к другому берегу, скрытому за серой пеленой дождя. Ночью в Лявле из-за нас произошел переполох, полиция уже собиралась снаряжать поисковую партию, подозревая, что мы совершили побег, ведь наша компания прилично удалилась из разрешенных пределов. Тем не менее, когда мы вернулись, промокшие до нитки, никто нас ни в чем не упрекнул.
Назавтра было намечено мне отправиться в путь. Я получил рекомендательные письма от Василия Васильевича, Алексея Сергеевича, Горбуна и других ссыльных, а данных мне советов и пожеланий хватило бы на десятерых.
Когда я объявил о своем намерении двинуться дальше, было выражено немало сожалений и предупреждений о грозящих мне опасностях — ограблении, убийстве, аресте и так далее. Но такие предостережения я слышал от русских не впервые и понимал, что предстоящее путешествие не так рискованно, как мой путь по Кавказу. Надо еще сказать, русские поразительно мало знают свою страну, они предпочтут попасть в тюрьму, чем скитаться по родимой стране. Бродяга с литературными наклонностями — не менее редкое явление, чем, скажем, черный лебедь.
Я завершил все приготовления, уложил заплечный мешок, передал Переплетчикову излишний багаж, чтобы он отвез его для меня в Москву, забрал накомарник, зарядил фотоаппарат пленкой, всунул книжонку, чтобы в дороге было что читать. Все дела были сделаны.
"Пойдешь до Пинеги пешком?" — медленно вопросила бабушка, вглядываясь в меня, как бы силясь понять, что я за человек такой. "Пешком? А почему не на почтовых? Дорого тебе?"