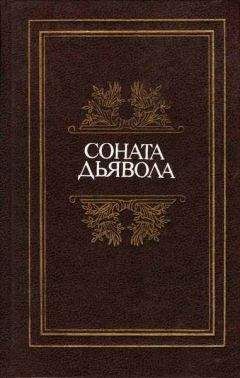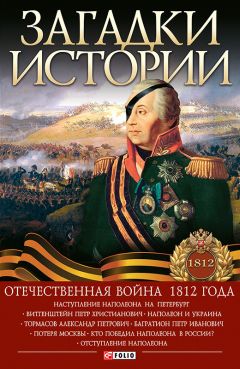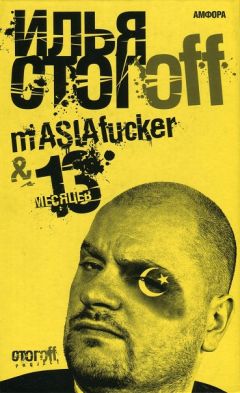Жерар Нерваль - Конец Великолепного века, или Загадки последних невольниц Востока
Вот в облаках табачного дыма появились альмеи. Они поразили меня блестящими тюбетейками на заплетенных в косы волосах. Они притоптывали каблучками, отбивая ритм; на поднятых вверх руках позвякивали колокольчики и браслеты, они сладострастно покачивали бедрами, а под прозрачным муслином между кофточкой и роскошным, спадающим на бедра, как у Венеры, поясом виднелась полоска обнаженного тела. Эти обворожительные особы так быстро кружились, что было почти невозможно разглядеть их лица.
Они ударяли в маленькие цимбалы, размером не более кастаньет, звуки которых почти заглушала примитивная мелодия, выводимая флейтой и тамбурином. Две гордые альмеи, с восточными глазами, подведенными кохлем, со свежими, слегка нарумяненными щеками, были очень красивы, но зато третья — третья явно принадлежала к иному, не столь нежному полу, о чем свидетельствовала недельная щетина на «ее» лице. После того как закончился танец, я сумел лучше разглядеть лица и двух первых и убедился в том, что перед нами были альмеи… мужского пола.
Вот вам сюрпризы Востока! А я-то чуть было не проникся поспешной страстью к этим «прелестным созданиям» и уже готов был прилепить им на лоб но нескольку золотых монеток согласно одной из самых невинных восточных традиций… Меня могут счесть расточительным, но спешу объяснить: существуют золотые монеты — газа — достоинством от пятидесяти сантимов до пяти франков. Разумеется, зрители выбирают самые мелкие монеты, чтобы покрыть лица танцовщиц своеобразной золотой маской, когда, проделав изящные па, они склоняют перед каждым свой влажный лоб; но эти простые танцовщики, переодетые женщинами, не заслуживали подобной церемонии, им можно было просто бросить несколько пара.
В самом деле, египетская мораль весьма своеобразна. Еще недавно танцовщицы могли свободно ходить по городу, вносили оживление в праздники и доставляли удовольствие посетителям казино и кофеен. Сегодня они имеют право выступать лишь на торжествах в частных домах, и поборники морали считают более пристойным, чтобы эти танцы исполняли женоподобные длинноволосые мужчины, чьи обнаженные руки, тело и грудь являют собой плачевную пародию на прелести полуобнаженных танцовщиц.
Я называю этих танцовщиц в своем рассказе альмеями, делая тем самым уступку европейскому словоупотреблению. На самом же деле танцовщицы называются здесь газийя (мн. ч. гавази), а альмея (по-арабски более точно алима, во мн. ч. авалим) — это певица. Что же касается танцовщиков, которых признает мусульманская мораль, им именуют хавали.
Выйдя из кофейни, я снова пересек узкую улицу, направился к тупику Вэгхорн, а оттуда в Розеттский сад. Меня окружили торговцы одеждой, разложили передо мной роскошные костюмы с вышивкой, пояса из золотой парчи, оружие с серебряной инкрустацией, тарбупш, отделанные шелком по последней константинопольской моде, — все те вещи, которые пробуждают в мужчине чувство кокетства, присущее женщинам. Если бы я мог увидеть свое отражение в одном из зеркал кофейни, которые, увы, лишь нарисованы на стене, я бы, возможно, с удовольствием примерил что-нибудь из этих одежд, ибо решительно собирался завести себе восточных! костюм. Но сначала следовало подумать о меблировке дома.
ХАНУМ
Я возвращался к себе, погруженный в эти раздумья; я давно отослал драгомана, чтобы он ждал меня дома, теперь я уже мог сам найти дорогу. Мой дом был полон посетителей: прежде всего меня ждали повара, присланные месье Жаном, они собрались в цокольном этаже под холлом, неторопливо курили и пили кофе; на втором этаже, наслаждаясь кальяном, расположился еврей Юсеф, а на террасе тоже раздавались чьи-то голоса. Я разбудил драгомана, который предавался кейфу (послеобеденному отдыху) в дальней комнате. Он закричал как человек, доведенный до отчаяния:
— Я же говорил вам утром!
— Что?
— Что вы не должны находиться на террасе.
— Вы мне сказали, что туда следует подниматься лишь ночью, чтобы не беспокоить соседей.
— Но вы оставались там до восхода солнца.
— Ну и что?
— Как ну и что? Там наверху рабочие, которым вы должны будете заплатить, шейх квартала прислал их час назад.
И впрямь, я застал там мастеровых по изготовлению решеток, они заняли целый угол террасы.
— С той стороны, — пояснил мне Абдулла, — дом одной ханум (знатной дамы), она жалуется, что вы к ней заглядывали.
— Увы, я ее не видел.
— Но она вас видела, этого довольно.
— А сколько же лет этой даме?
— Она вдова, ей не меньше пятидесяти.
Это показалось мне столь нелепым, что я выломал и выбросил вниз прутья, которыми рабочие уже обнесли террасу; весьма удивленные, те молча разошлись, потому что никто в Каире, если только не принадлежит к турецкой расе, не осмелится противоречить франку. Драгоман и еврей покачали головами, ни слова не говоря. Я велел позвать поваров и нанял одного, показавшегося мне смышленее других. Это был черноглазый араб по имени Мустафа; казалось, он остался весьма доволен обещанной мною платой — полтора пиастра в день. Другой повар тут же предложил помогать Мустафе всего за один пиастр, но я решил, что мне не по карману увеличивать расходы по содержанию дома.
У ворот. Художник Рудольф Эрнст
Я слушал еврея, который развивал передо мной свои идеи о выращивании тутовых деревьев и шелковичных червей, когда в дверь постучали. Это был старый шейх, он привел обратно рабочих. Он сказал мне, что я компрометирую его как шейха, что проявил черную неблагодарность, тогда как он любезно сдал мне дом. И добавил, что ханум была в ярости, особенно когда я сбросил в ее сад прутья решетки со своей террасы, и что она собирается пойти с жалобой к кади.
Я понял, что меня ждут разного рода неприятности, и постарался оправдать себя незнанием местных нравов, уверяя шейха, что ничего не видел, да и не мог бы увидеть, поскольку страдаю сильной близорукостью.
— Если бы вы знали, — сказал он мне, — как здесь все опасаются, чтобы чьи-либо нескромные глаза не заглянули в их сад или во двор; даже для возглашения призыва на молитву с высоты минарета стараются выбирать слепых старцев.
— Мне это известно, — сказал я.
— Согласно правилам приличия вашей жене следует нанести визит ханум и сделать ей какой-нибудь подарок — носовой платок или безделушку.
— Но знаете ли, — сказал я в полной растерянности, — я пока что…
— Машалла! — вскричал шейх, ударив себя по лбу. — Я об этом совсем забыл! Что за наказание иметь у себя в квартале франков! Я дал вам неделю, чтобы вы поступили согласно закону. Если бы вы были мусульманином, то без жены вы не имели бы права жить нигде, кроме опеля (караван-сарая).