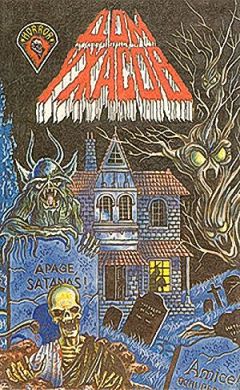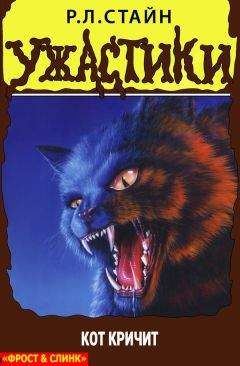Асгольф Кюстин - Россия в 1839 году. Том второй
Этот Иван III, казнивший смертью за крамолу, почитается у русских как один из величайших людей.
Такие же или почти такие же вещи происходят в России и поныне. Из-за всевластия самодержцев здесь нет уважения к судебному приговору; император, став лучше осведомлен о деле, всегда может отменить то, что решил он, будучи осведомлен плохо[76].
Признания Карамзина показались мне вдвойне значительны в устах столь льстивого и робкого историка, как он. Я мог бы умножить подобные выдержки, но, думается, привел их довольно, чтобы отстоять свое право высказывать не обинуясь мои соображения, ведь они подтверждаются мнением даже такого автора, которого упрекают в пристрастном взгляде.
В стране, где умы с детских лет приучаются к скрытности и ухищрениям восточной политики, естественность поневоле встречается реже, чем где-либо; когда же она есть, то обладает особым очарованием. Я видел в России нескольких человек, которые стыдятся безжалостно давящего их гнета власти, будучи принуждены под ним жить и не осмеливаясь даже жаловаться; такие люди бывают свободны только пред лицом неприятеля, и они едут сражаться в теснинах Кавказа, ища там отдыха от ярма, которое приходится им влачить дома; от такой печальной жизни на челе их остается печать уныния, которая плохо вяжется с их воинскими манерами и беспечностью их возраста; юные морщины изобличают глубокую скорбь и внушают искреннюю жалость; эти молодые люди взяли у Востока глубокомыслие, а из мечтаний Севера — смутность духа и наклонность к грезам; в несчастье своем они очень привлекательны; ни в одной стране нет на них похожих{362}.
В русских есть изящество, а значит, должен быть и какой-то особый род естественности, которого я, впрочем, не сумел разглядеть; возможно, он вообще неуловим для чужеземца, проехавшегося по России столь быстро, как я. Ни один народ не имеет столь трудноопределимого характера, как этот.
У русских не было средневековья, у них нет памяти о древности, нет католицизма, рыцарского прошлого, уважения к своему слову[77]; они доныне остаются византийскими греками — по-китайски церемонно вежливыми, по-калмыцки грубыми или, по крайней мере, нечуткими, по-лапонски грязными, ангельски красивыми и дико невежественными (исключая женщин и кое-кого из дипломатов), по-жидовски хитрыми, по-холопски пронырливыми, по-восточному покойными и важными в манерах своих, по-варварски жестокими в своих чувствах; они презрительно насмешливы от безысходности, побуждаемые к язвительности вместе и природою, и ощущением собственной приниженности; они легкомысленны, но лишь на внешний вид — по сути своей русские расположены к серьезным делам; все они довольно умны, чтоб развить в себе необыкновенно тонкий житейский такт, но ни у кого недостает великодушия, чтобы подняться выше хитрости; они внушили мне отвращение к этой способности, без которой у них не проживешь. Следящие за каждым своим шагом, они кажутся мне самыми жалкими людьми на свете. Прискорбное это достоинство — такт житейских условностей, узда, накинутая на вольное воображение, принуждающая беспрестанно жертвовать своим чувством ради чужого; с отрицательным этим достоинством несовместны иные, положительные и высшие, достоинства; это ремесло честолюбивого льстеца, всегда готового исполнять чужую волю, постоянно следящего и отгадывающего, к чему ведет дело хозяин, — вздумай он сам дать делу толчок, его тут же прогонят вон. Чтобы дать делу толчок, нужна гениальность; для сильного гениальность и есть его такт, для слабого же такт составляет всю его гениальность. В русских нет ничего, кроме такта. Гений зовет к действию, а такт — лишь к наблюдению; чрезмерная же наблюдательность приводит к неуверенности, а значит, к бездействию; гений может сочетаться с большою искусностью, но не с крайнею тонкостью такта, ибо в коварной этой льстивости — высшей доблести холопа, который чтит врага-господина, не решаясь его сразить, — всегда есть доля притворства. Благодаря такой изощренности, достойной сераля, русские непроницаемы для чужого взгляда; всегда, правда, заметно, что они нечто скрывают, но что именно — неизвестно, а им того и довольно. Еще хитрее и опаснее станут они тогда, когда научатся скрывать самое свою хитрость.
Некоторые из них этого уже достигли — то высшие представители нации, как по занимаемому положению, так и по могуществу ума, с каким вершат они свою власть. Здраво судить об них я могу только задним числом, при встречах же бывал заворожен их обаянием.
Но, Бог мой, к чему же столько уловок?
Какою целью объясняется все это притворство?
Что за обязанность или корысть понуждает людей к столь долгому и утомительному ношению личин?
Быть может, все эти приемы предназначены лишь защищать действительную и законную власть?.. Но такая власть в них не нуждается — истина сама обороняет себя. Или же так удовлетворяются ничтожные тщеславные притязания? Возможно. Однако ж доставлять себе столько хлопот, чтоб получить столь скудные плоды, — труд недостойный тех серьезных людей, что им заняты; замысел их представляется мне глубже; иная, важнейшая цель видится мне, — в ней и усматриваю я причину их удивительной скрытности и терпеливости.
В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям — одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.
В лице императора Николая подданные обожают не человека, но честолюбивого вождя еще более честолюбивой нации. В страстных своих устремлениях русские скроены по образу древних; все напоминает у них о Ветхом завете; их чаяния и терзания столь же велики, сколь и их империя.
Ни в чем не знают они пределов — ни в муках, ни в наградах, ни в жертвах, ни в упованиях; они могут достичь огромной власти, но лишь тою ценой, какою азиатские народы покупают незыблемость своего правления, — ценою счастья.
Россия видит в Европе свою добычу, которая рано или поздно ей достанется вследствие наших раздоров; она разжигает у нас анархию, надеясь воспользоваться разложением, которому сама же способствовала, так как оно отвечает ее замыслам; сделанное с Польшей затевают вновь, в большем размере{363}. Париж уже не первый год читает возмутительные газеты — возмутительные во всех смыслах, — оплачиваемые Россией{364}. «Европа идет тою же дорогой, что и Польша, — говорят в Петербурге, — напрасным либерализмом она сама себя ослабляет, тогда как мы остаемся могущественны потому именно, что не свободны; потерпим же под ярмом, за свой позор мы отыграемся на других».