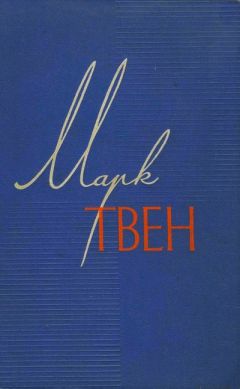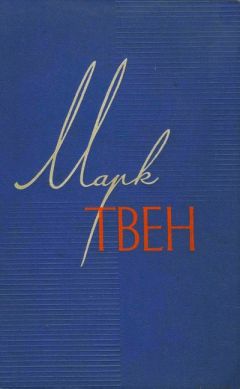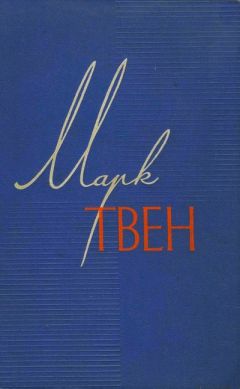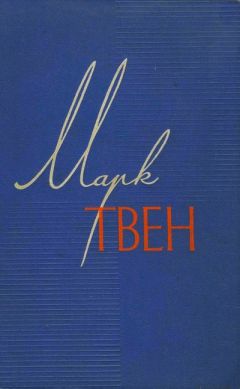Марк Твен - Собрание сочинений в 12 томах. Том 2. Налегке
И вот я вновь очутился в Сан-Франциско, в том же положении, что и раньше, — без средств к существованию и без работы. Я ломал голову, стараясь найти выход, как вдруг меня осенила мысль — прочитать публичную лекцию! Я тут же сел и с лихорадочной надеждой набросал ее текст. Показал его нескольким друзьям, но все они качали головой. Говорили, что никто не придет меня слушать и что меня ожидает позорный провал, что я непременно сорвусь, так как никогда не выступал публично. Я был безутешен. Наконец один редактор хлопнул меня по спине и благословил меня. «Валяйте, — сказал он. — Наймите самый большой зал в городе и продавайте билеты по доллару штука».
Дерзость его проекта очаровала меня. Вместе с тем я чувствовал в нем бездну практической мудрости. Владелец всех театров Сан-Франциско поддержал эту затею и тут же предложил мне прекрасное новое помещение Оперы за полцены — пятьдесят долларов. Я принял его предложение от чистого отчаяния, но принял его, по вполне понятной причине, в кредит. За три последующих дня я задолжал сто пятьдесят долларов в типографию и за рекламу, и на всем побережье Тихого океана не было более испуганного и растерянного человека, чем я. Спать я не мог совершенно, — да и кто бы стал спать в моем положении? Посторонним последняя строка на моей афише могла показаться игривой, я же писал ее с неподдельной болью в сердце:
Двери раскрываются в 7.30.
Неприятности начнутся в 8.
Строчка эта впоследствии прочно вошла в рекламный фонд. Устроители публичных зрелищ стали широко пользоваться ею. Мне пришлось даже видеть ее в конце газетного объявления, напоминающего школьникам, распущенным на каникулы, о начале занятий. С каждым из этих трех томительных дней я становился все несчастней и несчастней. Двести билетов разобрали друзья, но я не был уверен в том, что они придут. Лекция, задуманная как «смешная», начинала казаться мне все более и более унылой, так что под конец я в ней не видел и крошки юмора и жалел только о том, что нельзя втащить на сцену гроб и превратить всю историю в похороны. Тут я впал в такое паническое настроение, что решил обратиться к трем старым приятелям. Все трое отличались гигантским ростом, отзывчивой душой и мощными голосовыми связками.
— Провал обеспечен, — сказал я им, — шутки мои так тонки, что никто их не заметит, и я бы очень просил вас выручить меня и сесть в первых рядах.
Они обещали помочь. Затем я пошел к супруге одного человека, пользующегося известностью в городе. Я просил ее, как о большом одолжении, сесть с мужем в первой ложе от сцены, на видном месте — так, чтобы весь зал мог их лицезреть. Я объяснил ей, что мне понадобится их помощь. Всякий раз, как я обернусь к ним с улыбкой, она должна будет понимать это как сигнал, означающий, что я только что разразился очередной туманной остротой, «и тогда, — продолжал я, — действуйте немедленно, не ждите, пока суть моего остроумия дойдет до вашего сознания!»
Она обещала исполнить мою просьбу. Затем на улице мне повстречался совершенно незнакомый человек. Он был несколько навеселе, и лицо его сияло улыбкой и добродушием.
— Моя фамилия Сойер, — сказал он. — Вы меня не знаете, но не в этом суть. У меня нет ни цента, но если бы вы знали, до чего мне хочется посмеяться, вы бы подарили мне билет. Ну как, даете?
— А как у вас обстоит со смехом — он у вас на предохранителе или так? Я хочу сказать, вы легко смеетесь или с натугой?
Моя робкая речь и манера так подействовали на него, что он тут же продемонстрировал мне свою смешливость. Товар мне показался подходящим, и я выдал ему билет, наказав ему сесть в амфитеатре, в самом центре, с тем чтобы он отвечал за этот участок зала. Объяснив ему подробно, как распознавать самые непонятные остроты, я с ним расстался. Он был в восторге от нашей затеи и радостно похохатывал.
В последний из этих трех напряженных дней я не мог есть — я мог только страдать. В афише я объявил, что кассы будут в последний день продавать билеты на самые лучшие места. В четыре часа пополудни я потащился в театр — посмотреть, как идет продажа. Кассира не было, касса была закрыта. Сердце у меня подступило к самому горлу. «Итак, никто не берет билетов, — сказал я себе, — этого, собственно, следовало ожидать». Мысли о самоубийстве, симуляции болезни, бегстве теснились у меня в голове. Думал я обо всем этом всерьез, ибо на самом деле страдал и боялся несказанно. Но, конечно, ничего не оставалось, как отогнать все эти мысли и нести свой крест до конца. Я с нетерпением ждал назначенного часа, мне хотелось поскорее покончить с этим кошмаром. Должно быть, именно так чувствует себя человек, приговоренный к виселице. Побродив переулками на задах театра, я вошел в него в шесть часов вечера. Спотыкаясь в темноте о полотнища кулис, я пробрался на сцену. В зале царили мрак и молчание, пустота его действовала угнетающе. Я снова побрел в темноту за кулисы. На полтора часа я всецело предался ощущению ужаса, позабыв обо всем на свете. Затем я вдруг услыхал неясный гул; он становился все громче и громче, уже можно было различить нетерпеливые хлопки и выкрики. Волосы у меня встали дыбом — так близко, так громко все это было! Наступила пауза, потом опять началось. Еще одна пауза — и опять. Не знаю, как я очутился на сцене, перед моими глазами поплыло море человеческих лиц, беспощадные огни рампы чуть не ослепили меня, и я весь дрожал от смертельного ужаса. Театр был набит битком, и даже в проходах не было свободного места.
Прошла минута, прежде чем я мог совладать с собой, — мысли и чувства мои были в смятенье, ноги подкашивались. Затем, когда я увидел, что на всех лицах написано доброжелательство и милосердие, страх мой поутих, и я начал говорить. На третьей или четвертой минуте я уже чувствовал себя вполне хорошо и даже был доволен. Три основных моих союзника привели с собой еще троих, и все шестеро сидели в первом ряду, держа наготове громы своего смеха, чтобы обрушить их при первом же намеке с моей стороны на шутку. Всякий раз как я выпускал заряд остроумия, гремели раскаты их хохота и лица давали трещину от уха до уха. Сойер, чья добродушная физиономия краснелась где-то в середине амфитеатра, сейчас же подхватывал, и зал дружно включался. Никогда еще второсортные шутки не имели такого потрясающего успеха. Наконец я дошел до серьезной и самой милой моему сердцу части лекции. Я говорил прочувствованно, задушевно, меня слушали затаив дыхание, и мне это было дороже самых восторженных оваций. На последних словах я невзначай повернул голову, встретил пытливый и напряженный взгляд миссис ***, вспомнил свои разговор с ней и не мог удержаться от улыбки. Она приняла мою улыбку за сигнал и тут же рассмеялась своим милым смехом. Вся аудитория так и прыснула вслед за ней. Этот взрыв был кульминацией всего вечера. Я боялся, что мой славный Сойер задохнется. Громовержцы мои тоже работали не за страх, а за совесть! Но жалкое мое поползновение на пафос погибло, едва появившись на свет. Его честно приняли за шутку, и притом самую острую во всей лекции. Я благоразумно решил не разуверять аудиторию.