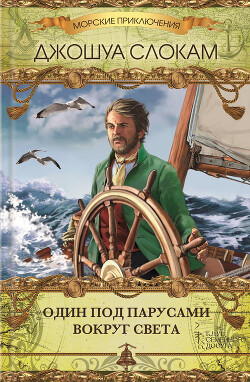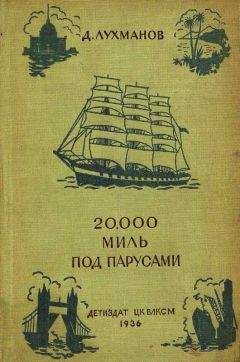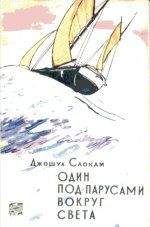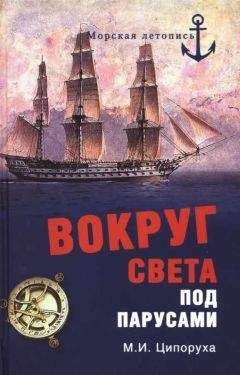Соленый ветер. Штурман дальнего плавания. Под парусами через океаны - Лухманов Дмитрий Афанасьевич
По пути трудов лейтенанта Моори пошли десятки образованных моряков, из которых особенно выделился капитан английского торгового флота Тойонби.
В семидесятых годах прошлого столетия все многочисленные и иногда разноречивые лоции различных авторов были систематизированы и собраны в многотомный капитальный труд неким Александром Финдлеем, под общим заголовком «Наставления для плавания». Эти книги сделались настольными книгами всякого мореплавателя. Однако в книгах Финдлея есть один довольно крупный недостаток. Приводя по какому-нибудь вопросу целый ряд мнений различных капитанов, он избегает делать общий вывод и не дает никаких наставлений от себя, поэтому мореплаватель, прочтя иногда десятки страниц одной из его книг, оказывается в положении сказочного богатыря, приехавшего на распутье трех дорог и остановившегося у плиты с надписью: «Направо поедешь, коня загубишь, налево — сам пропадешь, а прямо пути нет».
«Финдлей» стал самой популярной книгой в кают-компании «Товарища». Взвесив все «за» и «против», я решил проложить курс прямо на острова Зеленого Мыса, но оставить их к востоку, а пройдя, сделать знаменитый зигзаг в сторону Африки, но, как оказалось впоследствии, прогадал. При тех условиях, которые выпали на долю «Товарища», было бы гораздо выгоднее идти между островами и материком Африки.
Предпассатные северные ветра, которые мы имели до Мадейры, должны были, на основании всех лоций и инструкций, скоро превратиться в ровный, постоянный и довольно свежий пассат. Однако день шел за днем, а ветер хотя и мало менял свое направление, но не свежел.
«Что же это, пассат или не пассат?» — ломали мы головы. Да, это был, несомненно, пассат, но такой слабый, которого, как говорится, старожилы не запомнят. Причиной этому, по всей вероятности, были те ужасные ураганы, которые с месяц тому назад пронеслись у берегов Мексики. Вероятно, они нарушили какое-то равновесие в атмосфере, благодаря которому северо-восточный пассат ослабел.
«Товарищ» двигался к югу со скоростью трех-четырех узлов. Тропик Рака пересекли 15 октября, а до десятого градуса северной широты тащились еще шестнадцать дней и пересекли его в полночь с 31 октября на 1 ноября.
Тропическая жара давала себя чувствовать. Черные борта корабля накаливались так, что к ним нельзя было притронуться рукой. По верхней палубе нельзя было ходить босиком. В каютах было невыносимо душно. Костюмы наших ребят делались все проблематичнее, и многие дошли до полотенца вокруг талии, кое-как зашпиленного английскими булавками.
Напрасно доктор и я пытались доказывать, что кожа белого человека не приспособлена к подобным экспериментам. Трудно было заставить молодежь не только одеться, но даже носить специально приобретенные на Мадейре широкополые шляпы. Целые лекции были прочитаны о солнечных ударах и ожогах кожи, но почти безрезультатно. Только на юте, куда я категорически запретил являться нагишом, рулевые и вахтенные штурманские ученики появлялись в рубашках и, по крайней мере, в трусиках. Поэтому территория нашей палубы скоро разграничилась: ют получил прозвище Европы, а вся остальная часть корабля — Полинезии.
Скоро некоторые белые полинезийцы получили сильные солнечные ожоги спины и рук. Кожа на обожженных местах сделалась темно-малинового цвета и вздулась большими белыми пузырями. Малейшее прикосновение к обожженным местам вызывало нестерпимую боль. Воспользовавшись этим обстоятельством, я отдал приказ, в котором объявил, что товарищи, получившие солнечные ожоги по собственной вине, не будут мною освобождаться от службы. Если же ожоги будут настолько тяжелы, что пострадавшие физически не будут в состоянии нести вахты и участвовать в судовых работах, то время, потребное на лечение, не будет засчитываться им в стаж.
Этот приказ помог больше, чем лекции доктора, и «полинезийцы» начали постепенно превращаться в «европейцев».
Ища по ночам укромных местечек, ребята укладывались спать в самых невероятных местах. Эти места назывались «отелями». Лучшими из них считались те, которые были далеки от всех корабельных снастей и где, в случае ночной уборки или постановки парусов, никто не потревожил бы безмятежного сна подвахтенных. В поисках таких местечек двое ребят ухитрились устроить отель даже в открытом для просушки и чистки паровом котле.
Положение дневальных и вахтенных, на обязанности которых лежало будить очередную вахту, сделалось трагическим, и к восьми склянкам три-четыре человека из подвахтенных сплошь да рядом оказывались в «нетчиках», и приходилось обшаривать все судно с фонарями для того, чтобы их разыскать. Пришлось издать другой «зверский» приказ и не отпускать окончивших вахту вниз до тех пор, пока вся смена не была налицо.
Тихим и спокойным было плавание от Мадейры до штилевой полосы. Паруса почти не приходилось трогать, и мы успели переделать массу необходимейших судовых работ, несмотря на сильно уменьшенный из-за жары рабочий день. Работы производились только от восьми до одиннадцати утра и от трех до шести пополудни.
Небогатый запас наших развлечений постепенно иссякал. Спортивным состязаниям мешала жара, вечера самодеятельности не клеились, радиоконцерты прерывались электрическими разрядами.
Эти разряды делались все чаще и чаще и были ясным предвозвестником того, что корабль приближается к штилевой полосе, славящейся не только штилями, но и страшными грозами с жестокими, неожиданно налетающими шквалами.
На шестом градусе широты мы окончательно потеряли последние намеки на северо-восточный пассат и вступили в полосу случайных и переменных ветров. Небо потеряло свою прозрачность, горизонт сделался мглистым, насыщенный парами воздух напоминал предбанник. Необыкновенно красивы были солнечные закаты. У нас на севере вечерняя окраска неба постепенно переходит из голубой в зеленоватую, затем золотисто-желтую, малиново-красную, и, наконец, небо меркнет в лиловатых тонах. Здесь небо горело и сверкало всеми красками палитры. Оно расцвечивалось на западе, и эти краски отражались на облаках, скоплявшихся перед заходом солнца на востоке. Трудно было сказать даже, что было ярче, восток или запад. Разные краски скоплялись полосами, пятнами, быстро сменялись одна другой, и в этой фантастической смене цветов нельзя было усмотреть никакой гаммы, никакой системы переходов.
Первый тропический шквал мы встретили скоро после захода солнца 4 ноября.
Часов с пяти вечера, в горячей, сухой духоте кончавшегося дня было трудно дышать. Океан дремал в тяжелой истоме. Ярко-синяя, скорее похожая на саксонский фарфор, чем на стекло, вода чуть колебалась всей своей массой. Тишина штиля медленно наполнялась какой-то напряженной тревогой. Над горизонтом начала подниматься странная туча. Ее набухшее, буро-лиловое тело было окаймлено ровной, точно ножницами вырезанной желтоватой кромкой. Грозно, безостановочно ползла она кверху. А потускневшее, какое-то бледно-зеленое солнце также безостановочно спускалось вниз, ей навстречу.
И вот, они сошлись.
На несколько секунд кайма тучи пронизалась зеленоватым золотом и сразу сделалась серой, а сама туча почернела и начала быстро, быстро втягивать солнце…
Как последний крик умирающего бросило в небо задыхающееся солнце длинный, прямой сноп зеленых лучей. Но туча моментально выбросила страшные узловатые щупальца, сломала, скомкала зеленый лучистый сноп и стремительно поползла выше.
Ярко-синий фарфор океана начал сразу тускнеть. Горизонт слился с быстро потемневшим небом, и через несколько минут все утонуло в жутком, душном, непроницаемом мраке. В таком мраке, который не знают жители городов. Не знают даже жители самых маленьких, самых захолустных деревень. В таком мраке, который напоминал мифические дни хаоса мироздания и который знают только пастухи американских пампасов и прерий, да моряки.
Ни звука кругом. Ни одного огонька на палубе. Даже колпак главного компаса пришлось накрыть чехлом, чтобы свет от маленькой масляной лампочки не слепил глаз.
Весь комсостав столпился на юте, и все глаза впились в непроницаемую тьму. Уши напряженно и чутко ловили каждый звук.