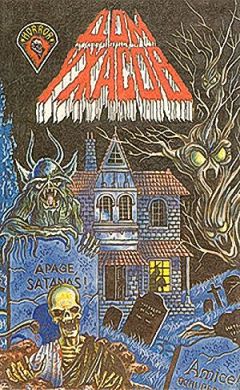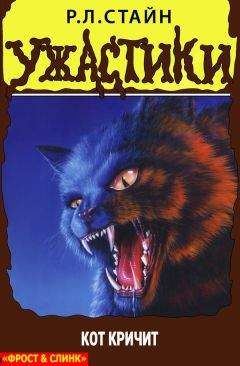Асгольф Кюстин - Россия в 1839 году. Том второй
Войдя нынче утром в городской собор, я был взволнован его видимою ветхостью; я думал, что коль скоро здесь находится гробница Минина, то, значит, здание это стоит в неприкосновенности более двухсот лет; от такой уверенности я находил вид его еще более величественным.
Губернатор подвел меня к усыпальнице героя; его могила неотличима от надгробий старинных владетелей Нижнего, и император Николай, придя посетить ее, в патриотизме своем изволил спуститься прямо в подземелье, где покоится тело.
— Вот один из самых красивых и примечательных храмов, какие мне довелось видеть в вашей стране, — сказал я губернатору.
— Это я его выстроил, — отвечал г-н Бутурлин.
— Как? Что вы хотите сказать? Вы, вероятно, восстановили его?
— Да нет: старый храм совсем обветшал; государь счел за лучшее не чинить его, а отстроить целиком заново; еще менее двух лет назад он стоял на пятьдесят шагов дальше и выступал из ряда прочих зданий, так что портил план нашего кремля.
— А как же кости Минина, его останки? — воскликнул я.
— Их выкопали вместе с останками великих князей, похороненных прежде; теперь все они в новой усыпальнице — вот под этим камнем{301}.
Мне невозможно было бы ответить нижегородскому губернатору, не перевернув все понятия в голове человека, столь истово преданного долгу; молча последовал я за ним смотреть небольшой обелиск на площади и огромные крепостные стены этого кремля.
Теперь вы знаете, как понимают здесь уважение к праху мертвых, почитание памятников старины и поклонение изящным искусствам! Притом император, зная, что старина заслуживает почтения, пожелал, чтоб церковь-новостройку чтили наравне с прежнею; как же он поступил? объявил ее старинною, и она такою стала; так власть берет здесь на себя роль божества. Новый храм Минина в Нижнем является старинным, а ежели вы сомневаетесь в сей истине, то вы просто бунтовщик.
Единственное искусство, в котором преуспели русские, — это искусство подражать зодчеству и живописи Византии; лучше всякого другого современного народа они умеют изготовлять старину, — оттого-то сами ее и не имеют.
Везде и всюду здесь один и тот же порядок, учрежденный Петром Великим и продолженный его преемниками, которые всего лишь учились у него. Сей железный человек счел и доказал, что волею московского царя можно заменить все — законы природы, правила искусства, истину, историю, человечность, кровные узы, религию. Почитая и поныне этого бесчеловечного человека, русские выказывают себя более тщеславными, нежели рассудительными. «Поглядите, — говорят они, — чем была Россия для Европы до пришествия великого государя и чем стала она после его царствования; вот чего может добиться гениальный властитель…» Подобным способом нельзя оценивать славу народа. Надменное стремление оказывать влияние на чужую жизнь — это материализм в политике. В числе цивилизованнейших стран мира есть государства, имеющие власть только над своими собственными подданными, да и то немногочисленными; в мировой политике государства эти ничего не значат; их правительства по праву добились всеобщей признательности не кровавыми завоеваниями и не угнетением других народов, но лишь благим примером, мудрыми законами, просвещенным руководством. Обладая такими достоинствами, небольшой народ может сделаться не захватчиком и не угнетателем, но светочем для всего мира, что стократ предпочтительнее.
Приходится лишь сожалеть, что эти простые, но мудрые понятия еще столь чужды даже самым лучшим, самым блестящим умам, и не только в России, но и во всех странах, особенно же во Франции. Мы по- прежнему заворожены войною и захватами, мы по-прежнему не внемлем урокам, получаемым и от Бога небесного, и от бога земного, имя которому — выгода; и все же я не теряю надежды, ибо при всех заблуждениях наших мыслителей, при всей циничности нашего языка и при всей привычке клеветать на самих себя мы все-таки остаемся народом глубоко верующим… Право же, тут нет парадокса: мы беззаветнее всех на свете преданы своим идеям; а разве для христианских народов идеи не заменяют собою кумиров?
К несчастью, в наших предпочтениях мы недостаточно разборчивы и независимы; прежнего кумира, ставшего презренным, мы не умеем отличить от того, которому должно поклоняться. Надеюсь дожить до той поры, когда у нас будет разбит кровавый идол войны, грубой силы. Народу всегда хватает и могущества и земли, когда у него есть мужество жить и умирать за правду, неустанно преследуя заблуждение, проливая кровь в борьбе против лжи и несправедливости и по праву славясь сими высокими добродетелями! Афины были ничтожною точкой на земле; но точка эта сделалась светилом всей древней цивилизации; и в то время как светило это сияло ярким блеском, сколь много других народов, могучих своею численностью и обширностью земель, жили войнами и захватами и умирали от никчемного и безвестного истощения! Перегной людских поколений дает урожай лишь на почве, взрыхленной просвещением. Что бы значила сейчас Германия, господствуй повсюду устарелые понятия завоевательной политики? А между тем, несмотря на свою раздробленность, на материальную слабость составляющих ее мелких государств, Германия ныне благодаря своим поэтам, мыслителям, ученым, благодаря разнообразию в государственном строе ее частей, где есть и князья и республики, соперничающие не в могуществе, но в просвещенности, в высоте чувств, в проницательности ума, — по уровню цивилизации стоит никак не ниже самых передовых стран мира{302}.
Народы обретают право на признательность человечества не тогда, когда алчно поглядывают на соседей, а когда обращают все силы свои на себя, добиваясь высших достижений как в духовной, так и в материальной цивилизации. Подобная заслуга настолько же почетней, чем доблесть, насаждаемая мечом, насколько вообще добродетель стоит выше славы…
Устарелое выражение «первостепенная держава», применяемое в политике, еще долго будет причиною наших бед. Самолюбие — привычка, глубже всех укорененная в человеке; а потому Бог, основавший учение свое на смирении, — истинный Бог даже со здраво политической точки зрения, ибо только он один указал нам путь бесконечного прогресса, прогресса всецело духовного, то есть внутреннего; однако свет вот уже восемнадцать столетий никак не поверит его слову; и все же слово это, сколько бы его ни отрицали и ни оспаривали, составляет для нас источник жизни; как же много дало бы это слово неблагодарному свету, будь оно принято всеми с верою? Применить евангельскую мораль в международной политике — такова задача будущего! Европа, с ее старыми, глубоко цивилизованными народами, послужит тем святилищем, откуда сияние веры вновь разольется по вселенной{303}.