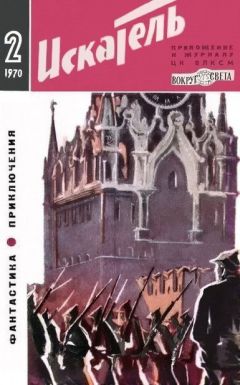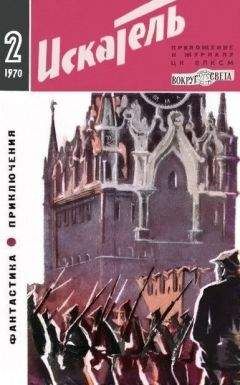Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
Я физически ощущал предсказанность нашего, именно нашего, еврейского, возвращения на свою землю после двух тысяч лет скитаний. Короче, окончательно я запутался в том, кто я – еврей, араб или гражданин мира. Последнее, как я уже говорил, звучало ужасно красиво, но внутри было абсолютно пусто.
И опять же мне подвернулся случай, вернее, я попал под этот случай, как под автобус. Представляете, институтская курилка, незнакомый мне студент из Израиля в кепке – ношение кипы в нашем институте, как признак религиозной принадлежности, было запре… не поощрялось – и орда палестинских студентов, наседающих на него. Крики: «Это наша земля!» – «Нет, это наша земля!» и я среди палестинских студентов. Правда, я молчу, но я среди них – ведь числюсь палестинцем.
Наконец, израильтянин – гладко выбритый, с высоким лбом, только что спокойно перекрывавший басом визги моих соотечественников, докуривает сигарету, гасит окурок о железную тарелочку пепельницы и делает шаг в сторону двери. Наступает глухонемая тишина, все расступаются, и он, молча, выходит.
Я бросился за ним, догнал его в коридоре и, поравнявшись, заговорил:
– Извините, я хотел бы вас спросить…
А он в тон мне:
– А я не хотел бы вам отвечать.
Я опешил. Потом снова подскочил:
– Но я хочу поговорить!
– А я не хочу, – отрезал невежливый еврей, продолжая свой путь по коридору с неопределенного цвета стенами. Замедли он шаг, начни мне всё разъяснять, воззови к логике, дело кончилось бы тем, что я вернулся бы убежденным палестинцем, но именно эта закрытость и примагничивала меня. Я остановился и крикнул:
– Умоляю вас, это вопрос жизни и смерти! Скажите, хотя бы, почему вы не хотите со мной разговаривать!
Он на ходу обернулся и выдохнул:
– Потому, что слова ничего не дадут. Если это действительно вопрос жизни и смерти, идите в синагогу.
Больше я его ни разу не видел. Он учился на другом курсе, на другом факультете. На нашем этаже появился случайно.
В синагогу я пришел. Вылез из метро на Больших Бульварах, прошагал переулками к «Фоли-Берже» и, завернув за него, оказался в еврейском квартале. Надписи на иврите заставили меня почувствовать себя… не то, что бы на родине, но… как бы это сказать – ну, все-таки в израильских городах я бывал не раз и не два, а из такого далека, как Париж, наши края и метрополия смотрелись соседями. Да и квадратно-клеточный орнамент иврита на фоне ставшей за годы учебы привычной, но все-таки чужой латиницы выглядел старшим братом нашей арабской вязи.
На голове у меня примостилась кепочка, и я, очевидно, выглядел довольно-таки по-еврейски, потому, что, когда спросил какого-то старичка в черной кипе, где синагога, тот, ничуть не удивившись, подробно объяснил мне, как пройти. Вскоре я очутился в маленьком бедном помещении, где десяток таких же старичков творили свою древнюю и вечную службу. Я на французском попросил молитвенник.
– Сидур, – поправил один из старичков, рыжий, без бороды, но с длинными вислыми усами.
Зачем я пришел сюда? На какие вопросы мог найти ответ в этой обители убогости и ветхих обрядов? Зачем меня направил сюда блестящий израильтянин, отказавшийся даже обратить на меня внимание, прошедший через толпу оскаливших клыки моих единоверцев, как сквозь какую-то прозрачную тень? Ответа я не знал. Я просто начал читать знакомые мне с детства ивритские буквы, кирпичики языка оккупантов, которых меня всю жизнь учили ненавидеть. Старичок ткнул пальцем, покрытым бурой вязью трещин, в начало молитвы, и я побежал по строчкам, не очень понимая их смысл и не очень силясь его понять. Потом мне это надоело, я перелистнул, не читая, пару страниц, мысленно отметив, что разные части молитвы написаны разным по размеру шрифтом, а затем уперся взглядом в ряд больших черных букв, высящихся посреди белого листа, сверху и снизу испещренного типографской мелкотой.
«Шма Исраэль…»
«Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь един». И в этот миг весь стариковский хор, обогнавший меня в каждодневном для них чтении, повторил:
«Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь един».
Я закрыл глаза и увидел маму. Она лежала на ковре нашей гостиной, одетая, как обычно, во что-то темное, даже, пожалуй, черное, и по этому черному из-под ножа, торчавшего в груди, текла красная кровь, и она, эта кровь, была на черном нестерпимо красной, и это было страшно и красиво, и самое страшное, что это было красиво, и губы у нее тоже были черные, и этими черными губами она шептала:
– Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь един…
Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь един…
Уже позже, много позже я узнал, что, умирая, еврей произносит эти слова. Тогда же, в синагоге, я ничего не знал, я просто читал «Шма, Исраэль» и видел маму.
На следующий день я купил телекарту, подошел к ближайшему телефону-автомату, набрал код Израиля и номер сто сорок четыре – общеизраильской телефонной справочной. Когда через несколько гудков очнулся мужской бас – точь в точь, как у того еврея, который без единого прикосновения расшвырял наших в институтской курилке – я попросил дать мне номер Биньомина Мейера из Иерусалима. Тут связь неожиданно прервалась. Я стал перезванивать, но «сто сорок четыре» было беспробудно занято. Привыкнув со дня маминой смерти ко всякой мистике, я посчитал это знаком свыше и больше перезванивать не стал.
А потом побежали последние месяцы учебы. Как я уже говорил, выбор мой не мог простираться дальше дилеммы – новорожденная Палестинская автономия, уже отошедшая от того низкого уровня жизни, который был при оккупации, но попавшая в объятия коррупции и нищеты, или Израиль, сытый, отъевшийся за годы экономического бума девяностых, ненавидимый теми, кто не может в нем поселиться, и вожделенный для тех, кто может. Я, будучи сыном своей мамы, принадлежал ко второй категории и, поскольку с потомками Измаила меня ничего не связывало, глупо было бы этим не воспользоваться. С учетом же явственно у меня обозначившейся после первого прихода в синагогу тяги ко всему еврейскому, можно с уверенностью сказать, что выбор мой был предрешен. В очередной приезд в Мадину я забрал мамины и свои документы, которые должны были стать основанием для предоставления мне израильского гражданства, и… и вот, в ожидании, когда бюрократическая машина пройдет весь свой рутинный маршрут, и мне это самое гражданство предоставит, я пока обретаюсь в Кирьят-Арбе. Так сказать, натурализуюсь. Кирьят-Арба… Зеленый островок у подножья каменной громады старинного арабского города.
– «Кирьят-Арба» – это первоначальное название Хеврона, – поясняет мне поселенка в изящной шляпке, не задумываясь над тем, что девяносто девять процентов жителей этого города называют его «Эль-Халиль». – Он упомянут в Торе не меньше пятидесяти раз.