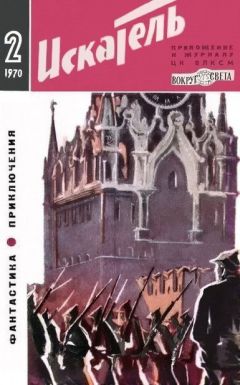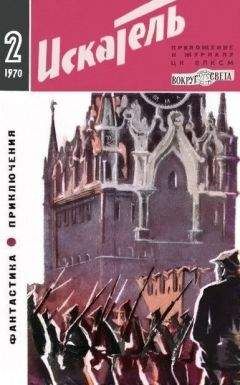Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
– И что папа ему ответил?
– А что он мог ответить? По законам Ислама нет какой-то особой формулы. Когда чувствуют приближение смерти, читают суры из Корана. Но папа ничего не успел ответить – Ахмед забился в судорогах.
* * *Что же до меня, то по возвращении Мазуза между нами возникла странная отчужденность. Когда я входил в гостиную, где он делился с друзьями воспоминаниями…
– Мы думали, нас убивать пришли. Смотрим, куда бы спрятаться. Некуда – повсюду окна, повсюду светло…
Увидев меня, он замолкал. Нет, конечно, он не боялся, что я донесу – чушь какая! – просто он единственный из всей семьи чувствовал, что во мне появилось нечто новое, чужеродное, чего я и сам еще не ощущал.
Я осознал это спустя несколько месяцев, когда мы вышагивали вместе с Анисом и его другом коротышкой Салманом по улице Мадины. Мимо нас медленно плыли квадратные домики и сады предместья. Внезапно сверху шипящий грохот прорезал воздух. Это были израильские военные самолеты. Они мчались на север – в Ливан.
– Евреи летят убивать наших братьев, – сказал Салман, задрав голову, но, не замедляя шаг.
Я покраснел. Мне казалось, он сейчас добавит:
«А вы, ребята, когда вырастете, тоже будете нас убивать?»
И вставит что-нибудь из Корана, вроде: «Не берите иудеев и христиан себе друзьями… А если кто берет их себе в друзья, тот сам из них».
Анис хмыкнул. Я взглянул на него и поразился – слова его друга не имели к нему никакого отношения.
Я же рвался надвое.
* * *Второй арест произошел после того, как арабским камнем под Рамаллой был убит какой-то еврейский мальчишка, ехавший в машине.
– Одним будущим поселенцем меньше, – отреагировал Мазуз, но, похоже, израильтяне решили восстановить равновесие. На ближайшей демонстрации в Мадине солдаты от души поработали прикладами, а в ответ на камни среди обычных резиновых пуль затесались свинцовые. В числе убитых был приятель Мазуза. На этот раз и сам Мазуз сел более капитально. Вместо полицейского участка в Мадине, его гостеприимно пригрела тюрьма в самом Израиле – «Келе ашарон».
Лицо нашего отца приобрело дополнительные морщины и такое выражение, что вечная его седина, прежде казавшаяся налепленным анахронизмом, теперь выглядела совершенно естественно.
Не помню, говорил ли я, хотя, возможно, это и так явствовало из описания его утонченно-джентльменского-европейского образа, что раньше отец всегда отличался аккуратностью. Так вот теперь он приобрел новую привычку – терять. Прежде всего, очки. В результате – обычное зрелище: когда надо что-нибудь прочесть или разглядеть, отец хлопает себя по пустым карманам, затем обводит всё вокруг слюдяным взглядом, в котором люди и предметы расплываются, и, наконец, начинает привычно щуриться. В результате у него появились новые морщинки, лучиками разбегающиеся от уголков глаз, и понемногу лицо его стало напоминать волокнистые крылья бабочки-махаона.
Вслед за Мазузом за решетку стали отправляться его друзья. Их обламывали методом: «Мы про тебя всё знаем, твои товарищи тебя выдали». Так стало известно, что Мазуз руководитель группы, и загремел он на восемь месяцев. Но самое страшное началось, когда он вернулся. При встречах бывшие друзья прятали друг от друга глаза. Всё чаще моего брата вызывали в полицейский участок, чтобы обсудить с ним новые полученные на него показания. Всё меньше камней летело в еврейские машины. Всем было ясно, что евреи выстояли. Поселения на высотах вокруг Мадины разбухали на глазах, и наши ребята, те, что еще вчера забрасывали камнями идущие туда автомобили, теперь нанимались в эти же поселения строить дома для евреев. Мазуза больше не арестовывали. На свободе он с его отчаянием приносил властям куда больше пользы, чем вреда.
А потом наступил день, когда, вернувшись домой невесть откуда, Мазуз «порадовал» нас давно знакомыми, но за последние годы несколько подзабытыми расширенными зрачками и белым треугольником подбородка.
И тут очнулась мама. Всё его гашишовое детство она бесплотно скользила рядом, в годы, которые он посвятил борьбе с ее народом, она и от него, и от папы и от всех, кроме нас с Ахмедом, отгородилась стеклянной стеной, а теперь вдруг потеплела. Она не ругала Мазуза, не вела с ним душеспасительных бесед, просто подходила, садилась рядом и гладила, гладила, гладила его по волосам. Мама.
Однажды вечером, когда я сидел в своей комнате и готовился к экзаменам, раздался звонок. Нечеткой артикуляцией, будто рот его был полон камней, Мазуз просил меня вынести ему на угол шестьсот шекелей «на нужды революции». Я сорвался. Сказал, что после таких нужд его ни один нарколог не примет. Он обозвал меня евреем и бросил трубку. Впоследствии выяснилось, что в тот вечер Мазуз всё-таки занялся революционным рэкетом. К несчастью или к счастью объектом оказался не вовремя вышедший в ночной двор господин Азиз Сабаг. Наутро мы уговорили его не обращаться к еврейским властям. Дело замяли, хотя стоило нам это куда больше шестисот шекелей.
Шел девяносто первый год. Я окончил школу, поехал в Париж учиться на врача.
Я пытался разобраться в себе. Может, я ни еврей, ни араб, а вроде Ибрагима, в честь которого назван? Как там про него сказано? «Не иудей, не христианин, а ханиф предавшийся и не из многобожников». Эта загадочная строка из Корана ничего мне не говорила. Во-первых, не могу сказать, что вокруг меня роились многобожники, так что единственно, кому я себя мог противопоставить, это всё тем же евреям да христианам. Но так можно было бы сказать про любого мусульманина. Вот и получалось, что был наш Ибрагим не беспартийным пророком Управителя мира, стоящим вне конфессий, а предтечей Магомета. В чем же тогда его всесветность? Во-вторых, не так уж меня волновали вопросы веры. Я хотел понять, к какому народу принадлежу.
С той ночи, когда мама в комнате, куда заглядывал белый уличный фонарь, рассказала мне о своем бостонском бегстве, эта история стала моей историей, частью моей жизни. Её рассказы о детстве в еврейской семье по-прежнему не слишком трогали меня, уж больно густа была ирония, которой они были начинены, но когда она начинала петь еврейские песни, что-то во мне переворачивалось, что-то чуждое всему, меня окружавшему, словно через незримую капельницу, вроде той, которую ставили Ахмеду, проникало и всасывалось мне в кровь. Я был уже не только арабом, а может даже и не столько арабом. Но это всё внутри. А снаружи я оставался обычным палестинским студентом. Только в Париже.
* * *У меня появилась девушка – тоже из наших мест. Мы с ней честно врали друг другу, что любим друг друга. Этакий протез любви. Но о ней я думал мало. Вообще, всё вокруг меня было, как за окном. Красиво, но… Болело то, что дома. Белыми, тонкими, как у луковицы корешками, высасывало влагу новостей из почвы повседневности и расцветало ядовито-желтым цветком тревоги.