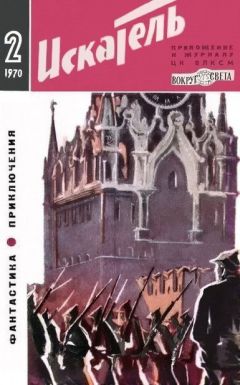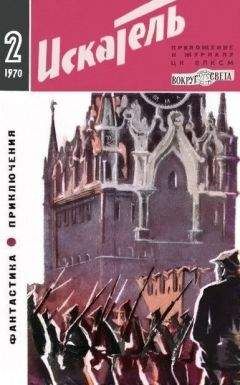Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
А еще был такой случай. Мы толпой двинулись к блокпосту – в те времена их было гораздо меньше, чем сейчас. Ребята запаслись камнями. Некоторые взяли здоровые такие рогатки. Возглавлял нас Фарук – рогаточный снайпер. Гайками с пол-ладони шириной стрелял виртуозно. Ему уже было лет двадцать. Вообще, пошли в основном большие ребята плюс несколько лет по четырнадцать-пятнадцать, ну и мы, мелкота. Да, досталось тогда евреям! Только и успевали уворачиваться. Пару раз пальнули в воздух, а мы не боимся – знаем, что по нам стрелять запрещено. Тут Фарук прицелился из рогатки и – точно одному в пасть. Наверно у того ни одного зуба не осталось! Схватился за рот, а по пальцам кровь – водопадом. Другой не выдержал и – за автомат! Целится в Фарука, мы поняли – сейчас пальнет. А тот, которому зубы вышибли, все орет и орет от боли. Может, если бы заткнулся, все бы и рассосалось. А он орет и орет, только нагнетает. А этот целится. Фарук тогда схватил из мелкоты того, кто поближе. А поближе-то был как раз я. Я прямо впереди его стоял, вернее, не стоял, а прыгал и кричал: «Аль-Кудс – наш! Аль-Кудс – наш!» Вот он меня и схватил под мышки. Поднял и прикрывается мною. Наверно, вот так же погиб семилетний племянник Фатхи Габина. У меня аж дух захватило! Смотрю на солдата, все, думаю, сейчас обкакаюсь, но надо улыбаться – дескать, мы, палестинцы, ничего не боимся, даже такие юные! А подмышки вспотели – у Фарука потом с пальцев текло. Встретились мы с солдатом взглядом – он автомат и опустил. Мне потом Фарук руку жал. Ты, говорит, мне жизнь спас. И другие все поздравляли. Даже Мазуз – вообще-то он меня недолюбливал, а тут обнял – «Ты наш маленький герой!» Однако это так, исключение. А вообще я в нашем доме оставался… нет, не маменькиным сынком, а маминым сыном. Я был, как Якуб – человек шатров. Поэтому мама и любила меня, а не их. То есть она, конечно, всех своих детей любила, но… как бы это сказать – биологической любовью, кошачьей, материнской. По-человечески она любила только меня.
А братья мои были люди поля. Вот, пожалуй, что сближало маленького Аниса с юношей Мазузом. Но Анис не курил марихуану, не воровал. Драчун был, правда, как и Мазуз, первостатейный. Однако специализацией его было нечто иное – вранье. Точнее, фантазии. Морочил он головы всем. Стоило однокласснику сломать ногу, поскользнувшись на лестнице, как Анис спешил оповестить всех вокруг, будто имярек поспорил с ним на шесть с половиной доларов, что спрыгнет с тремя зонтиками с минарета мечети Ан-Насир. Когда спустя десять дней несчастный ребенок с ногою в гипсе приковылял на костылях в школу, он долго не мог понять, почему на него смотрят, как на героя.
Опоздав по неизвестной (если не считать фонаря под глазом) причине на уроки, Анис объяснял, что вчера к папе на лечение привезли слона, поскольку ни один ветеринар не взялся, и он, Анис, ассистировал всю ночь при удалении аппендицита. “Вот только что, буквально полчаса назад закончили.” В этом случае литературный дар моего брата был оценен по достоинству, и он получил свой первый гонорар – двойную дозу плетки – и за опоздание и за враньё.
Как я уже говорил, большой был мастер по части набить кому-нибудь морду. И не только. Когда нормальные дети пускали в ход кулаки, он прибегал к разным видам вооружений. Палка, молоток, камень – все входило в его арсенал. Хорошо хоть в полицию никто не обращался – полиция была еврейской. В-общем, Анис был создан для будущей интифады, причем, тренировочным лагерем ему служила наша многострадальная улица.
Я же, в отличие от своих братьев – и старшего и младшего – учился хорошо, отличался примерным поведением. Когда этот факт отмечали в присутствии Аниса, тот еще, стиснув зубы, терпел, но когда меня, сопляка, стали ставить в пример дылде Мазузу, для бедняги это было совсем невыносимо. Отец, по-моему, до сих пор уверен, что возвращение Мазуза к человеческому образу (отмечу, временное) связано было не столько с интифадой, сколько с позорной ситуацией, вызванной наличием образцово-показательного младшего брата. Я так не думаю. Наркомания и кражи – чересчур серьезные штуки, чтобы их можно было перешибить столь примитивными педагогическими приемчиками.
Кстати, и у меня не всегда все гладко было с родителями.
Фаида!
Окна были в пупырышках капель, а на горах вокруг Мадины лежал снег. Самый настоящий снег – обыденность для жителей севера, радость для обитателей наших широт. Солнце купалось в этом снегу, не добавляя при этом ни оттенка к его белизне – она оставалась девственной, как гурия в Раю. Белизну эту оттеняли лишь рыжие прогалины да черная щетина сосен. Ветер плясал в голых деревцах и гонял рябь в озерах, образовавшихся на плоских крышах. Долины были салатового цвета, трава пьянела от талого снега. Как говорят у нас в народе, второй уголек уже упал. Упадет третий – и зиме конец.
Фаида!
Казалось, загар отлетает от ее лица, как лучи солнца – от снега. Да-да, именно белизна первого, а в наших краях – единственного – снега, только-только коснувшегося травы и еще не успевшего слипнуться, – вот что такое было ее лицо. И, как черные черточки сосен, острились черты этого лица, и, как черные волны лесов по заснеженным склонам, стекали потоки ее черных волос. И глаза. В них всё время был какой-то упрек, словно она знала великую тайну и грустила, что ее некому рассказать – никто не поймет. В том числе и я.
И мои друзья и подруги Фаиды замечали, что мы с ней внешне чем-то похожи. Ничего удивительного. Сказал же самый любимый мною философ древности Ибн Хазм в книге “Голубиное ожерелье”, что всякая душа ищет сходный с нею совершенный образ, вступает с ним в соединение, и тогда возникает истинная любовь.
А что дальше? В былые времена – во времена моих дедов – если тебе нравилась девушка, единственное твое право было – придти к ее отцу и попросить руки. Теперь – не то. Теперь – свобода. Часами я сидел с Фаидой у нее на кухоньке и рассказывал, как люблю ее. Стоило ее матери уйти из дому, мы начинали целоваться. Возвращалась мать, мы отодвигались друг от друга и начинали строить планы, как вырастем, и как я буду просить ее руки. Однажды ее мать пришла слишком рано. В тот вечер отец долго со мной беседовал. Выражение лица у него было примерно тоже, что в день, когда он залепил маме пощечину. На наше с Фаидой будущее жирным крестом легло «Никогда».
Когда в следующем году выпал снег, я заперся в своей комнате, задвинул шторы, ставни и не убирал их, пока последние посеревшие клочья его не ушли в землю холодными слезами.
…А теперь попрощаемся с моей первой несостоявшейся любовью и вновь вернемся к моим братьям.
Было девять часов вечера. Каждый в доме занимался своим делом. Я читал Нагиба Махфуза, отец с сестрами смотрели телевизор, мама сидела у себя в комнате, Мазуз что-то обдумывал, мечтательно глядя в окно, Анис, как обычно, где-то бегал. Он всегда возвращался очень поздно, отец страшно волновался – наши улицы никогда не отличались излишней безопасностью, а тут еще времена неспокойные. Потом мы не раз благодарили Аллаха за то, что Аниса тогда не было дома – зная его буйный нрав, я с легкостью представляю, что произошло бы, окажись он рядом с нами, когда пришли арестовывать его брата. А ведь именно это и случилось в тот вечер.